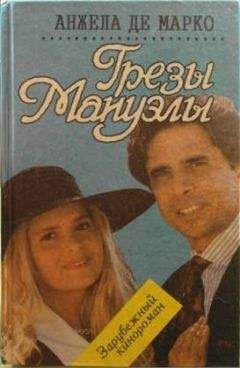Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон
Итак, мы предлагаем воссоединить в психологии Homo faber и наиболее оторванные от практики грезы, и самый тяжелый и суровый труд. У руки тоже есть свои грезы, есть у нее и свои гипотезы. Она помогает познавать материю в ее глубинной интимности. Следовательно, она помогает о ней грезить. Гипотезы «наивной химии», рождающиеся из труда Homo faber, имеют по меньшей мере такую же психологическую важность, что и идеи «естественной геометрии». И подобно тому, как эти гипотезы более глубинным образом предвосхищают свойства материи, они придают большую глубину и грезам. А замешиванию теста – больше геометричности, больше ребристости, более резкие надрезы. Это непрерывная греза. Это такой труд, которым можно заниматься с закрытыми глазами. Ведь греза эта – интимная. И к тому же ритмичная, жестко ритмичная, и притом таким ритмом, который захватывает все тело. Следовательно, она витальная. У нее есть доминирующая черта длительности: ритм.
Итак, эти грезы, рождающиеся из обработки тестообразных веществ, неизбежно согласуются с некоей особенной волей к власти, с мужской радостью проникновения внутрь субстанции, прощупывания внутренностей субстанций, познавания того, что внутри зерна, интимного покорения земли, подобного покорению земли водою, обретения силы стихий, участия в битве между стихиями, причастности к силе, растворяющей «безвозвратно». Затем начинают действовать связующие силы, и замес с его медлительным, но равномерным поступательным движением доставляет особую радость, менее сатаническую, нежели радость растворения; рука непосредственно осознает непрерывно возрастающую успешность союза земли и воды. В этом случае в материи запечатлевается иная длительность, длительность без перебоев, без порыва, без определенной цели. Ведь длительность эта не оформлена. У нее нет разнообразных временных алтарей для последовательных набросков, которые созерцание обнаруживает при обработке твердых тел. Эта длительность есть субстанциальное становление, становление изнутри. И оно может послужить объективным примером сокровенной длительности. Длительность бедная, простая, грубая; чтобы следовать за ней, требуется тяжелый труд. Длительность анагенетическая[272], но, вопреки всему, восходящая, производящая. Это воистину трудолюбивая длительность. Подлинные труженики – это те, кто «приложил руку к тесту» (фразеологизм, означающий «решительно принялись за работу». – Прим. пер.). Они обладают оперативной волей, волей рук. Эта воля – специфическое и очевидное для нас качество ручных сухожилий. Лишь тот, кому приходилось давить смородину и виноград, поймет следующий гимн Соме: «Десять пальцев чистят скребницей скакуна, находящегося в чане»[273]. Если Будда и сторукий, то только оттого, что он меситель теста.
Тесто развивает динамическую руку, которая образует едва ли не антитезу руке геометрической бергсонианского Homo faber. Она становится органом энергии, а не форм. Динамическая рука символизирует воображение силы.
Размышляя о разнообразных ремеслах, имеющих отношение к замесу, лучше понимаешь материальную причину, представляешь ее разновидности. Если представить себе процесс лепки как придание формы, то этот анализ будет недостаточным. Ничуть не более достаточным было бы понимание действия материи как сопротивления материала лепке. К познанию поистине позитивной, поистине действующей материальной причины приводит любая обработка тестообразных веществ. Это и есть естественная проекция. Это и есть один из частных случаев работы проектирующей мысли, которая переносит любые мысли, действия, грезы от человека к вещам, от труженика к его изделию. Бергсонианская теория Homo faber принимает во внимание проекции только ясных мыслей. Теория эта пренебрегает проекциями грез. Ремесла, кройки и резки не в состоянии осваивать материю в достаточной степени интимно. Проекция в них остается внешней, геометрической. Материя же не может играть роль даже пассивной опоры действий. Она – не что иное, как результат действий; то, что не отсекла кройка и резка. Скульптор по отношению к своей глыбе мрамора является верным слугой формальной причины. Форму он обретает посредством отсечения бесформенного. Формовщик же обретает форму своего куска глины посредством деформации, какого-то сновидческого произрастания аморфности. И как раз формовщик оказывается ближе всего к интимной грезе, к грезе произрастающей.
Надо ли тут добавлять, что этот до крайности упрощенный диптих не имеет своей задачей убедить кого-либо в том, что мы настаиваем на полном отделении уроков формы от уроков материи? Ведь подлинный гений их объединяет. Да и сами мы в «Психоанализе огня» привели наглядные примеры, убедительно доказывающие, что и Роден управлял грезами о материи.
Стóит ли теперь удивляться детскому энтузиазму, связанному с переживанием тестообразных субстанций? Г-жа Бонапарт напомнила о психоаналитическом смысле одного сходного переживания. Вслед за психоаналитиками, выделяющими анальную предрасположенность отдельных типов психики, она упоминает об интересе маленьких детей и некоторых категорий невротиков к собственным экскрементам[274]. Поскольку же в данной работе мы анализируем лишь более продвинутые психические состояния, психические типы, более непосредственным образом приспосабливающиеся к объективным переживаниям и к поэтическим произведениям, то, характеризуя труд по замешиванию теста в его чисто действенных аспектах, нам придется отбросить психоаналитические отклонения. Обработка тестообразных веществ, как правило, характерна для детей. На морском берегу порою кажется, что ребенок, подобно юному бобру, следует побуждениям некоего общезначимого инстинкта. Стэнли Холл, по сообщению Коффки[275], отмечал у детей черты, напоминающие о предках, живших в озерную эпоху[276].
Ил есть прах воды, подобно тому, как пепел – прах огня. Пепел, ил, пыль, дым дают образы с непрерывно изменяющейся материей. При помощи этих миниатюризованных форм виды материи, соответствующие стихиям, сообщаются между собой. Это как бы четыре праха четырех стихий. Ил – один из видов материи, обладающих наиболее выразительной архетипичностью. Похоже, что именно в этой форме вода передает земле первопринцип спокойного, медлительного, уверенного плодородия. Описывая грязевые ванны в Акви, Мишле вложил весь свой пыл, всю свою веру в возрождение в следующие слова: «В суженном озере, где концентрируется ил, я восхищался могучими усилиями вод, которые, создав его, процедив сквозь гору, а затем коагулировав, борются с собственным творением, с его мутностью; а пробиваясь наружу, поднимают его, устраивают мелкие „землетрясения“, протыкают его мелкими струйками, микроскопическими вулканами. Одна такая струйка – не что иное, как ряд пузырьков воздуха, другая же – сплошная – указывает на постоянное присутствие большой струи, которая, будучи стеснена в других местах, после многих тысяч ударов наконец побеждает, получает то, что кажется объектом желания, на которое направлены усилия этих маленьких душ, жаждущих увидеть солнце»[277]. Читая такие страницы, ощущаешь неодолимое материальное воображение в действии; именно оно, наперекор всем измерениям, невзирая на какие бы то ни было формальные образы, проецирует проникнутые уникальным динамизмом образы микроскопического вулкана. Такое материальное воображение становится причастным жизни всех субстанций, оно проникается любовью к бурлению ила, «обрабатываемого» пузырьками. И стало быть, всякая теплота, всякое обволакивание есть материнство, беременность. И Мишле[278], глядя на этот черный ил, на «вовсе не грязную грязь», погружается в это живое тесто и восклицает: «Дорогая общая матушка! Мы с вами – одно. Я вышел из вас и я вернусь туда, откуда вышел. Так поведайте мне вашу тайну. Что вы делаете, погрузившись в глубокий мрак, из которого вы посылаете мне эту горячую, могущественную, омолаживающую душу, которая хочет вернуть меня к новой жизни? Что же вы там делаете? – То, что ты видишь, только то, что я делаю у тебя на глазах, – говорила она вполне внятно, немного тихо, но нежным, ощутимо материнским голосом». Разве этот материнский голос не исходит поистине от самой субстанции? От самой материи? Материя обращается к Мишле из своих сокровенных глубин. Мишле улавливает материальную суть воды в ее сути, в ее противоречивости. Вода «борется с собственным творением». Это и есть единственный способ делать что бы то ни было: растворять и коагулировать.