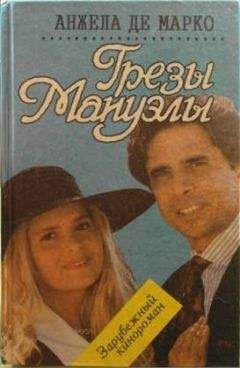Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон
Но сердце далеко не всегда бывает встревоженным. Есть и такие часы, когда кротость[261] воды и кротость ночи объединяются. Разве Рене Шар[262] не насладился материей ночи, ведь это он написал: «Ночной мед медленно истощается»? Душе, которая находится в мире сама с собой, кажется, что у властного мрака – аромат двойной свежести. Ароматы воды лучше всего ощущаются именно ночью. Ведь как бы залитая солнцем вода ни испускала для нас собственный аромат, запах солнца все равно сильнее.
Поэт, умеющий питаться образами в полном смысле этого выражения, знает также вкус ночи у моря. Поль Клодель писал в «Познании Востока»: «Ночь до того тиха, что кажется мне соленой» (р. 110). Ночь – словно некая легкая вода, что иногда обволакивает нас и вот-вот освежит наши уста. Мы впитываем ночь всем, что в нас есть гидрического.
Для действительно живого материального воображения, для воображения, умеющего воспринимать материальную сокровенность мира, великие субстанции природы: вода, ночь, залитый солнцем воздух – это субстанции «высшего вкуса». Им нет нужды расцвечиваться живописными пряностями.
IV
Союз воды и земли порождает тесто. Тесто представляет собой одну из фундаментальнейших схем материализма. И нам всегда казалось странным, что философия пренебрегает его изучением. Действительно, тесто представляется нам основной схемой воистину глубинного материализма, при котором форма «вытеснена», затушевана, растворена. Ведь тесто выражает проблемы материализма в элементарных формах (и в форме сочетания стихий) постольку, поскольку избавляет нашу интуицию от забот о форме. Здесь проблема форм ставится во вторую очередь. Тесто же дает первичный опыт переживания материи.
В месиве, тесте действие воды очевидно. Когда замес продолжается, меситель порою обращается к особым свойствам земли, муки, штукатурки, но в самом начале работы первая мысль его – о воде. Именно вода – его первая помощница. Именно под воздействием воды начинаются первые грезы рабочего, занимающегося замесом. Поэтому не стоит удивляться, что в таких случаях о воде грезят, представляя ее с активной амбивалентностью. Нет грез без амбивалентности, нет амбивалентности без грез. Ведь вода всякий раз предстает в видениях и в своей смягчающей, и в своей спрессовывающей роли. Она развязывает и она же связывает.
Начальное воздействие воды очевидно. Вода, как любили писать в старинных книгах по химии, «умеряет другие стихии». Справляясь с засухой – «делом рук» огня, она становится победительницей огня; она одерживает над огнем терпеливо ожидаемый реванш; она умеряет огонь; в нас она понижает жар. Землю вода уничтожает эффективнее молота, она смягчает субстанции.
А потом продолжается работа над тестом. Когда станет возможным пропитать водой саму субстанцию размельченной земли до конца, когда мука[263] выпьет достаточное количество воды, а вода – съест достаточное количество муки, тогда начнется переживание «связи», долгая греза о «связности».
Эту возможность связывать сущностно, общностью интимных уз, грезящий о своей работе рабочий приписывает то земле, то воде. В сущности, многие типы подсознания любят воду за вязкость. Переживание вязкости присоединяется к многочисленным органическим образам: они непрестанно занимают рабочего в его долготерпеливом труде по замешиванию теста.
Адептом этой априорной химии, основанной на бессознательных грезах, мы считаем Мишле. Для него «морская вода, даже чистейшая, взятая из открытого моря, для приготовления смесей непригодна, будучи слегка вязкой… Химические анализы этого свойства не объясняют. В ней есть некое органическое вещество, до которого можно добраться не иначе как уничтожив его, лишив всех характерных особенностей и насильственным путем вернув это вещество в ряд общих элементов»[264]. И тотчас же, совершенно естественно для точного обозначения этой сложной грезы, в которой принимают участие вязкость и слизистые выделения, из-под его пера выскакивает слово «слизь»: «Что такое морская слизь? Вязкость, характерная для всякой воды вообще? Не является ли она универсальным жизненным элементом?»
Впрочем, иногда и вязкость – не более чем след онирической усталости; она мешает грезе двигаться вперед. В таких случаях мы переживаем навязчивые видения, застревающие в вязкой среде. Калейдоскоп грезы переполняется круглыми и медлительными предметами. Если бы можно было систематически изучить такие вялые грезы, то это послужило бы познанию так называемого мезоморфного воображения, т. е. воображения, промежуточного между формальным и материальным. Объекты мезоморфной грезы обретают свою форму лишь с трудом, а потом они ее теряют, оседают, подобно тесту. Предмету клейкому, ленивому, порою фосфоресцирующему – но никак не лучезарному – соответствует, мы полагаем, наиболее выразительная онтологическая насыщенность онирической жизни. Эти грезы, представляющие собой грезы о тесте, грезы из теста, всякий раз бывают борьбой или же поражением в стремлении творить, формировать, деформировать, месить тесто. Как сказал Виктор Гюго: «Деформируется все, даже бесформенное» (Homo Edax – «Человек прожорливый» // «Труженики моря»).
Собственно говоря, и сам глаз, чистое зрение, утомляется от твердых тел. Он хочет грезить о деформации. Если же взгляд действительно «смиряется» со свободой грезы, то все начинает течь согласно живой интуиции. «Мягкие часы» Сальвадора Дали растягиваются, стекают по капле в углу стола. Они живут в клейком «пространстве-времени». Как и всякая клепсидра[265], они заставляют «течь» предмет, мгновенно покоряющийся соблазну уродливости. Если поразмыслить о «Покорении иррационального», станет ясно, что этот живописный гераклитизм зависит от некоей поразительно искренней грезы. Столь глубоким деформациям просто необходимо отметить деформацией саму субстанцию. Как сказал об этом Сальвадор Дали, мягкие часы – это плоть, это «сыр»[266]. Эти деформации часто воспринимаются неправильно из-за того, что рассматриваются со статической точки зрения. Кое-какие уравновешенные критики с легкостью принимают их за абсурд. Они не переживают их глубокой онирической выразительности, они непричастны воображению обильной вязкости, которое порою дает и мгновенному взгляду все преимущества своеобразной божественной медлительности.
В донаучном сознании можно обнаружить многочисленные следы тех же сновидений. Так, для Фабриция чистая вода – сама по себе клей; она содержит некую субстанцию, которую наше подсознание наделяет способностью осуществления связи, действующей в тексте: «Вода обладает вязкой и клейкой материей, способствующей тому, что она с легкостью „схватывается“ с древесиной, с железом и с другими необработанными веществами»[267].
И такими материалистическими интуициями[268] мыслили не только малоизвестные ученые типа Фабриция. Аналогичную теорию можно обнаружить и в химии Бургаве[269]. В своих «Началах химии» (Éléments de Chymie) Бургаве писал: «Даже из камней и кирпичей, если истолочь их в порошок, а впоследствии подвергнуть воздействию Огня… всегда можно извлечь немного Воды; и даже они частично обязаны своим происхождением Воде, которая, подобно клею, связывает их частицы между собою»[270]. Иначе говоря, вода – это клей мироздания.
Это схватывание материи водой невозможно понять до конца, если удовольствоваться визуальным наблюдением. К нему следует добавить и наблюдение осязательное. Наблюдение – слово, имеющее две составные части, относящиеся к двум видам чувств. Интересно проследить, как работают присоединяющиеся к визуальным наблюдениям тактильные ощущения, сколь бы затушеваны они ни были. Таким образом можно исправить теорию о Homo faber[271], слишком уж наскоро постулирующую то, что между тружеником и геометром, между действием и видением существует какая-то согласованность.