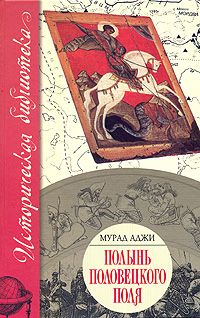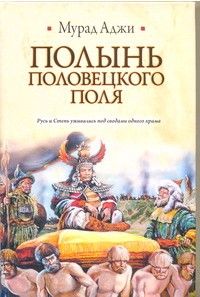Луиджи Зойя - Созидание души
С Прометея начинается то бесконечное желание и самоудовлетворение, которое люди Запада распространили по всей планете. Эсхил знал о нем и его опасался. И поэтому, когда он (в драме «Персы») празднует победу над варварами, он описывает их страдания, но умалчивает о славе греков. (По сути, по той же причине Эсхил умалчивает о собственных заслугах перед театром: он хотел, чтобы на его могиле его упомянули не как автора, а – согласно традиции – как простого солдата, сражавшегося в битве при Марафоне.)
До Эсхила описание человека основано на чувстве предела. В лирике Мимнерма (Диль 2), в речах Главка, который повествует в «Илиаде» о своем происхождении (VI, 146), в мудрых словах старцев (Эсхил. Агамемнон, 79) люди уподобляются листьям: хрупкие, недолговечные, маленькие части, исчезающие в куче. Трудно вообразить представление о себе, более отличное от того, что свойственно нам, современным европейцам. Наши монотеистические корни, из которых произрастает убеждение о том, что мы созданы по образу и подобию Божию, и наш культ прогресса, связанный с оптимизмом просветителей, привели к постоянному искушению беспредельностью.
Боги изменились. У греков они следили за исполнением человеческих законов; и не только были чужды христианской любви, но и открыто жестоки. Их зависть ко всем достижениям и радостям людей препятствовала прогрессу, но позволяла регресс; начиная с золотого века и до века железного жизнь людей постепенно ухудшалась (Гесиод. Труды и дни).
Христианский оптимизм был направлен на пересмотр функций божества: вместо завистника оно становится союзником. Вместе с тем изменяется на противоположное и отношение человека. Вместо ужаса перед божеством, он делает именно то, что было запретным для греков: он ему подражает (imitatio Christi). Святые живут почти что в симбиозе с Богом. Чаяния современных сторонников прогресса ориентируются, по сути, в том же направлении. Мораль hýbris’а забыта. Постоянное соблюдение ограничений превратилось в узаконенное их нарушение.
Запад в действительности имел два священных текста: текст трагедии и текст Библии. Первый хочет, чтобы человек склонил голову. Второй – чтобы он ее поднял. Однако человек начал поднимать голову не тогда, когда он обратился к христианству, а намного раньше, когда он перестал соблюдать трагический ритуал.
Руководствуясь всеми этими причинами, я попробовал задать следующий вопрос: когда и каким образом мы, принадлежащие к западной культуре, потеряли чувство предела и приобрели ту страсть к улучшениям, которая была hýbris’ом именно для греков, основателей и прототипов нашей культуры? Для нашей цели будет достаточно напомнить, что переворот – от культа ограничений до культа беспредельности – произошел именно в век Перикла, век главнейших эллинских достижений, в котором даже трагедия приобретает блеск и исчезает. Как если бы все мысли греков сосредоточивались вокруг hýbris’а, потому что греки чувствовали его искушение больше других народов, изучая его и вынося ему приговор. И в то же время, как если бы они вознесли трагедию (которая была частью культа Диониса, напомним, а не простым зрелищем), создав грандиозный коллективный ритуал для уступки этому искушению и восстановления прежних границ.
Вот другой решающий довод в пользу того, почему после V века, когда желание прогресса становится неукротимым, исчезает трагедия. Трагедия была видением мира, запечатленным в уважении к краю; излишне следовать ритуалу предела, когда сам предел исчез; так же как излишним будет догматически отстаивать систему Птолемея – еще одно религиозное и основанное на понятии края видение мира, – когда этот край уничтожен космическими кораблями, делающими оборот вокруг Земли.
При обсуждении нашей темы мы будем придерживаться следующей логики: трагедия, и в особенности трагедия Эсхила, представляла собой торжественное утверждение и созерцание предела. Но именно потому, что она знала и содержала в себе hýbris, клятвенно отрекаясь от него. Итак, трагедия понимала и принимала амбивалентность человека, которую в любом случае можно назвать драматической.
По моему мнению, интерес современного человека к трагедии происходит прежде всего из устранения этих понятий. Мы чувствуем тоску по краю и по амбивалентности, которые прославляла трагедия и которые отменил прогресс. Вначале исчез край благодаря бесконечному прогрессу, а затем – амбивалентность, которую заменила рациональная однозначность, необходимая как для иудейско-христианских заповедей (да будет ваше слово: «да», если «да»; и «нет», если «нет»), так и для научного мышления (которое исходит из того, что формулы могут быть либо верными, либо ошибочными).
Большой и – вовсе не случайно – амбивалентный интерес, который демонстрирует современная эпоха в отношении утомительной, дорогостоящей, непродуктивной и ненаучной процедуры, именуемой анализом (предшествующей просветительским идеям), имеет в своей основе нечто очень простое и очень похожее. Нам необходимо чувствовать, что мы не обязаны находить решения всегда и немедленно; мы нуждаемся в возможности оставаться драматически амбивалентными; считать, что наша жизнь отмечена знаком судьбы и посвящена тайне, но не лишена достоинства; в возможности признавать пределы, невзирая на чувство вины и «долг» по их преодолению, навязываемый нам современной цивилизацией. Если нам удастся описать это родство между аналитической и трагической ментальностью, мы предположим также и глубинный мотив, по которому с момента своего рождения анализ более вдохновлялся трагедией, чем каким-либо иным жанром или экспрессивной формой76. Мы более подробно рассмотрим этот вопрос в другой раз. Здесь мы ограничимся напоминанием, что наша культура породила два противоположных описания мира, две нарративные структуры: трагическую и посттрагическую, неважно, в какой форме – литературного повествования, кинематографической или просто в виде комикса.
Им соответствуют два вида отношений с миром. Первое – ограничивающее, только описательное и даже созерцательное. Второе – приобретательское, умножающее, деятельное. Этого контраста между нашей античностью и нашей современностью невозможно избежать. Конечно, многие великие визионеры, такие, как Данте или Гете, смогли объединить противоположные описания в едином синтезе. Но показательно то, что эти события остаются уникальными, а не составляют некую общность.
Даже тот факт, что в трагедии сюжет заранее задан, в то время как перед повествованием последующих эпох стоит задача по его изобретению, не является случайным различием между повествовательными техниками: оно заложено уже в их противоположной установке. Трагедия – это только повествование, созерцание, переживание. Описываемое событие всегда было таким, так оно и случилось. Оно по своей природе заключает в себе предел, принятие anánke, уже чего-то существующего или предписанного. Герой постоянно сталкивается со смертью, парадигмой всех ограничений, не пытаясь ее отсрочить. В тисках столь гнетущих преград его действия все же не кажутся нам бесполезными. На узком пути, который ему остается, он обладает свободой в общественной жизни и в личных чувствах: это верно и для Ахилла, и для Гектора, и для Этеокла, и для Ореста.
Посттрагическое повествование каждый раз заново предоставляет нам сам рассказ и события, о которых он ведется. Немногие парафразы классических тем не могут ни подняться до высоты оригинала, ни избавить от искушения создавать их варианты. Каждый потенциально новый сюжет выражает безграничную свободу еще до появления действующих персонажей и до утверждения автором своих ценностей. В этом смысле также показательно, что Еврипид, вводя в мифологическую тему варианты решения богов, обозначает максимальный предел трагедии и события нового типа.
Проверим теперь, насколько различается язык двух описаний мира, одно из которых вдохновляется пределом, а второе – hýbris’ом.
Первое отличие в речи мы находим между переходным и непереходным действием. Первое переходит – переносит действие – на объект; второе связано с субъектом. Эти качества могут быть использованы именно для обозначения интересующей нас разницы. Трагедия непереходна, даже рефлексивна. Действие не изменяет мир вещей, оно остается за субъектом или обращается на него. Конечно, трагедия и эпос, из которого она происходит, хорошо знают hýbris. Однако трагедия изображает круг, видимым образом кладущий предел действию; а затем возвращается к истокам. Hýbris Агамемнона разжигает эту страсть в Ахилле, а hýbris Ахилла – гордость Патрокла, на плечи которого обрушится высокомерие Гектора; и так hýbris вернется к Ахиллу. Круг замкнется на Агамемноне в Орестее, цикле трагедий Эсхила, где мы видим смерть Агамемнона от руки жены Клитемнестры и ее любовника, после чего Орест вершит возмездие, мстит за отца и убивает свою мать. Клитемнестра гибнет вслед за своим супругом, и мы видим, что ни одно из устремлений этих людей не увенчалось успехом: и только судьба достигла своих целей.