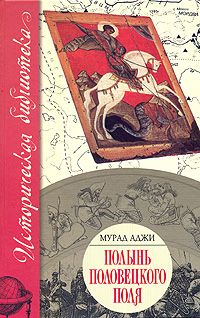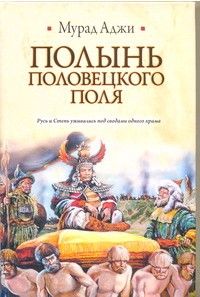Луиджи Зойя - Созидание души
Со времен Персидской империи миф пытался породить сам себя: преобразовать бессознательные образы в коллективную реальность. В мифе Европа не существует без быка, а бык – без Европы. Сила животного не имеет смысла без нежности цветов, так же как и объединение посредством одной только силы потеряло бы всякое значение без дифференциации. Но и дифференциация стала бы простым набором фрагментов и распадом без объединяющей ее силы.
Как Европа на быке, в течение тысячелетий идея империи продолжала продвигаться с Востока на Запад. И продвигаясь, она порождала трагедии (как фиванский цикл) вместе с развитием культуры (создание алфавита) и техническим развитием (которого столь преждевременно пожелал Минос). В своем продвижении эта идея пыталась объединить противоположности: азиатское происхождение и европейское предназначение, единство и различия. В античности с Востока на Запад продвигалась Персия; на рубеже Средневековья и Нового времени это была Турецко-оттоманская империя; наконец, в наше время это была Россия в облике Советского Союза. Все три силы достигали цели. Все три ее теряли, потому что не могли стать силой действительно объединяющей и универсальной, сохраняя при этом многообразие различий. Противоположности оставались расколотыми, а объединение превалировало над дифференциацией.
Разумным будет предположить, что эти прецеденты – вкупе с кратким, но травматическим опытом фашизма, который хотел объединить Европу силой, уничтожая различия, – давят на так называемую коллективную память. Вполне возможно, что теперь, противостоя насилию, принцип дифференциации возобладал над принципом единства. Мы угадываем его в возрождении малых родин и местных обычаев. Противоположности все еще с трудом принимаются, потому что одни находятся в привилегированном положении по сравнению с другими. Так, средний гражданин согласен с тем, что нужно стремиться к большему экономическому благосостоянию и политической стабильности путем объединения Европы, но только при условии слабого объединяющего импульса. При условии отказа от европейских мифов, символов и ритуалов, вплоть до полного их уничтожения. Если считать рождение Европы первым событием подобного рода, не сопровождаемым глубинными образами и эмоциями, потому что скорость изменения – изменений – уже теперь пугает, и этот гражданин в основном стремится укрыться в спокойном уголке местной действительности.
Позволим себе небольшую шутку. В области совсем не банальной, потому что часто там скрывается все, что осталось от ритуалов, мифов и встреч между народами: чемпионатов по футболу. Финал чемпионата мира по футболу 1998 года, который свел в противоборстве Францию и Бразилию, смотрело по телевидению бесчисленное количество итальянцев, хотя команда Италии уже выбыла из игры. Так как для футбольного болельщика идентификация имеет основополагающее значение, а я тоже к ним принадлежу, я спрашиваю себя, не порождается ли интерес частично противостоянием европейской команды и команды, представляющей далекий континент. Я с волнением жду, когда кончится матч, потому что футбольные болельщики зачастую интереснее самого футбола. Но после матча не происходит ничего. Обычный приглушенный дорожный шум. После столь важного и столь символичного события – победы французов над экстраклассными бразильцами, победы столь поразительной и неожиданной, – я не слышу и сотой части шума всех тех автомобилей, которые всегда собираются на улицах, празднуя победу не то что национальной, а любой итальянской команды. И поскольку в Милане несколько тысяч французов и франкоговорящих, то несколько автомобилей, празднующих победу, принадлежат им, а не нам.
В качестве проверки я звоню друзьям: не только в Риме и Флоренции, но и в Лондоне, Брюсселе, Цюрихе и Вене ничего не происходит.
В Милане не только почти не видно французских флагов, не видно ни одного европейского флага: ни на машинах, ни на балконах, ни вечером после победы, ни на следующий день.
Ни один журнал, ни один телевизионный канал из тех, что ежедневно напоминают нам, что мы принадлежим к единой Европе и, более того, являемся самой европейской из всех европейских стран; ни одна из организаций, которые сегодня с гордостью вывешивают европейский флаг, как положено по закону, в общем, никто из политиков и представителей массмедиа, которые годами неустанно повторяют имя Европы, и не подумал о празднике во имя Европы.
Никто не вспомнил – как произошло бы в любом из национальных первенств, – что на чемпионате, где встречались все континенты, самый маленький из них завоевал три из четырех первых мест. Футбол – это ритуал и миф, но Европа топит ритуалы и мифы в молчании. Европа – это только европейская экономика. Европа – это привычные немцы, а может быть, удивительные ирландцы, которые оплатят наши долги. Европа – это всегда другие.
4. Трагическая мысль
4.1. «Агамемнон» и актуальность трагедии74
В школе, во время вынужденных «визитов» в классическую Грецию, нам ничего или почти ничего не говорят о ее моральном кодексе. Как если бы эта культура, которую нас просят считать основой всего западного мира, полностью исчерпала себя в мифах, религии и великом искусстве, но не имела этики.
Как часто случается с древнейшими цивилизациями, греки были далеки от того, чтобы обладать окончательным моральным кодексом, а что касается их религии, она кажется областью абсурда, если не прямой аморальности. Однако отсутствию настоящего кодекса они противопоставили сильнейшее этическое вдохновение: недостаток рациональных правил восполнялся неизменным присутствием глубокого чувства, которое придавало их действиям единый характер. Это вдохновение может обязывать сильнее изложенного на бумаге кодекса, потому что его порядок не может обсуждаться и ослабляться разумом. Это – эмоция, переживаемая почти физически, не превращаясь в абстрактную идею.
Прославиться без меры – преступление. Зевс следит за этим, обрушивая свои молнии на всех, кто слишком возносится над другими (Эсхил. «Агамемнон», 468 и далее; эта тема близка и Геродоту: см., напр.: «История», VII, 10). Агамемнон, вернувшись домой победителем Трои, колеблется, медлит входить в свой дворец и ставить ногу на красный ковер, постеленный ему царицей Клитемнестрой в знак почестей. В его словах звучит тревога, и мы воображаем, как дрожат руки и выступает пот на лбу царя (914 и далее). Здесь, намного раньше, чем цареубийство, в игру вступает истинное насилие драмы. Когда Агамемнон внезапно уступает лести царицы и позволяет, чтобы его встретили шумными восхвалениями, как варварских царей, мы понимаем, что Клитемнестра его уже уничтожила и победила. Она разбила его морально еще до того, как ударом секиры отняла физическую жизнь.
Синдром Агамемнона – это ужас hýbris’а, и в hýbris’e сосредоточено все зло для эллинской ментальности.
Под hýbris’ом греки понимали избыток гордости и удовлетворения, желание без границ. Без hýbris’а абсолютно невозможно понять Эсхила, а наверное, и трагедию в целом, и саму греческую ментальность. Но без греческого склада ума мы оказываемся оторваны от наших корней и отчасти непонятны сами себе. Возможно, поэтому hýbris так актуален и столько может нам поведать и о нынешних наших грехах.
Обратной стороной hýbris’ а оказывается phthónos: зависть богов к человеку, который получает или хочет слишком много. Это его естественное последствие: возмездие, безличный механизм справедливости, обрушивающийся на того, кто слишком вознесся.
Прометею, положившему начало всем удобствам, которыми человек себя окружает, хор предлагает единственную мораль: справедливо склониться перед возмездием (Прометей, 936). Возмездие – это справедливое воздаяние, которым вдохновляется зависть богов и которое неизбежно умаляет того, кто стал слишком велик. Справедливость, родившаяся раньше, чем христианский постулат из Нагорной проповеди: «… кто возвышает себя, тот унижен будет»75.
Наконец, говоря современными словами, еще более ясными и простыми, обратная сторона hýbris’а – это предел желаниям человека.
С Прометея начинается то бесконечное желание и самоудовлетворение, которое люди Запада распространили по всей планете. Эсхил знал о нем и его опасался. И поэтому, когда он (в драме «Персы») празднует победу над варварами, он описывает их страдания, но умалчивает о славе греков. (По сути, по той же причине Эсхил умалчивает о собственных заслугах перед театром: он хотел, чтобы на его могиле его упомянули не как автора, а – согласно традиции – как простого солдата, сражавшегося в битве при Марафоне.)