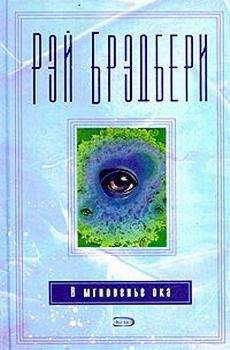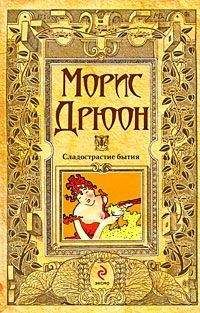Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
Если Пауль Тиллих действительно прав, то нам еще долго придется ожидать того заветного часа, когда всеобщая тревога наконец замолчит и позволит говорить Сущему и Человеку в нас. И если это так, то Роман Виктюк значительно опередил свое, то есть наше, время, потому что такое «слово» уже найдено.
В конце «Саломеи» на сцене погаснет рампа и прозвучит последняя пауза. А когда свет вновь озарит сценическую площадку, возникнет последняя пустота. Декорации, белый диван и стоящие в ряд красные стулья с утонченными, как изгиб пера, спинками. На одном из них будет сидеть Роман Виктюк в облачении паузы и пустоты, увенчанный их величественной красотой. Он уже все сказал, а теперь он сидит и молча вглядывается в оцепеневший зал. Царственное Ничто обличает нашу ничтойность, но именно в этой ничтойности наше счастье, потому что она открывает нам завесу Сущего и тайну Человека. Кто свободен от страхов, продиктованных уязвимой амбициозностью и индюшачьей уверенностью в собственной исключительности, сполна испытает всю сладость этого священного дара.
Знак
Наш век психологи называют «веком тревоги», и с этим, к сожалению, трудно спорить. Мы перестали бояться конкретных угроз и живем в иллюзии полной защищенности: чего стоит один только миф о полной победе медицины над болезнью! Но, несмотря на это, все мы чрезвычайно тревожны. В чем же тут дело? Попытки объяснить всеобщую тревожность предпринимаются многими исследователями. Безусловный лидер французского персонализма Эмманюэль Мунье пишет: «Может, достаточно говорить о нашем смятении? Наш сегодняшний страх – это священный страх перед Божьим промыслом, перед наивысшей способностью, данной нам через разрушение, перед неспособностью укротить скорость нашего изобретательства, когда мудрость наша, задохнувшись в погоне, не может совладать с ним». Мунье полагает, что тревога, поразившая наше общество, вызвана предчувствием техногенной катастрофы. «Тревога наших современников перед лицом глобальной катастрофы, ожидающей мир, – пишет философ, – это нечто вроде инфантильной реакции некомпетентных и потерявших самообладание путешественников, попавших в аварию. Кажется, образ аварии здесь мало подходит. Европейский человек скорее находится в ситуации, в которой очутился технически беспомощный человек, путешествующий в машине, шофер которой внезапно умер, а машина мчится на полной скорости. Он потерял управление, каковым, как ему казалось, он обладал; мир несется в бездну, а он бессилен противостоять этому». С этим высказыванием Мунье трудно не согласиться. Действительно, наше положение весьма напоминает состояние незадачливого пассажира, описанного философом. Но предчувствие ли грядущей катастрофы внушает страх и постоянную подспудную тревогу обычному, рядовому человеку? Трудно себе представить, что нормальный современный человек боится телевизора со спутниковой антенной, микроволновой печи, полов с подогревом и услужливого компьютера… Вряд ли обыватель, пользующийся этими благами цивилизации, задумывается над тем, что каждое из этих «благ» – не что иное, как «знамения» грядущего «конца света». Мунье явно поспешил с отождествлением тревоги, которую испытывает каждый современный человек, с грозящей нам техногенной катастрофой.
Объяснение нашей тревожности, предложенное Эмманюэлем Мунье, слишком сложно, слишком интеллектуализировано, чтобы быть правдой. По сути дела, это банальная интеллектуальная спекуляция, но многие интеллектуалы продолжают тешить себя этим мнимым ответом на зияющий вопрос о тревоге. И взгляд Романа Виктюка, абсолютно ясно представленный в его «Саломее», должно быть, слишком для нее нов, слишком необычен, чтобы сразу, с ходу завоевать всеобщее признание. Психологическая проблема, разумеется, не в технологиях как таковых и не в фиктивности завоеваний нашей цивилизации, проблема заключена в параличе, который сковал современного человека. Всеобщая психологическая проблема, проявляющаяся тревогой, заключена в нашем страхе поступать в соответствии с нашим собственным внутренним чувством, ведь, поступая так, как мы хотим, а не так, как этого требует культура, мы можем сразу же угодить в беспредельно разросшуюся сферу патологии. Но вот что примечательно: мы не можем поступать и в соответствии с требованиями культуры, поскольку заветы культуры (о чем мы говорили выше) фактически высосаны из пальца и неприменимы на практике. Мы парализованы! Существует множество замечательных этических постулатов. Но кто же поручится за их исполняемость? Ведь никто никогда не апробировал их системное использование! Кто же даст нам гарантии, что конечный результат будет таким, каким его предсказывают неисправимые теоретики? А эстетика культуры, эстетические нормы, классика – разве отвечают они эстетическому чувству современного человека? На классический балет и в традиционный театр ходят теперь, как в цирк, не испытывая при этом никаких реальных переживаний прекрасного. Какая эстетика?! Это великий самообман и не более того, она опирается не на психологию, что бы ей следовало делать, а на полые формы, которые ровным счетом ничего не стоят. Вот почему культура поставила человека в совершенно безвыходное положение: она предложила ему путь, по которому он просто не может идти из-за искусственности заявленных ориентиров и фиктивности предложенных путей. А быть естественным человек теперь просто боится, потому что это «бескультурно», с одной стороны, и грозит ярлыком «патологии», с другой. В такой ситуации тревога просто не может не возникнуть!
Признаемся честно: реальная техногенная угроза не слишком велика, а конкретному человеку и вовсе незачем боятся технологичной цивилизации, скорее наоборот. Конечно, все мы понимаем, что экология не в особом восторге от наших индустриальных достижений, но вряд ли это кого-то по-настоящему сильно пугает. Равно как и то, что мы умрем от голода или холода, злобных хищников и неизвестных духов, что пугало наших далеких предков. Теперь нас разъедает совсем другой страх. Чудовищный страх прежних времен отступил перед величием Божественного Промысла, под яростным натиском науко-центрированной цивилизации, но его место расторопно и по-хозяйски нахально занял страх, вызванный подавлением непомерно разросшейся массой современной культуры. Но кто из нас ощущает собственную подавленность культурой? Единицы, но все мы находимся под пятой ее абсолютной власти; она воздействует на нас с той же полнотой, с какой наши тела испытывают на себе гравитационные силы земли. Как известно, труднее всего заметить очевидное… Долгое время человек не замечал даже (казалось бы, что может быть очевиднее) существование воздуха! Именно атрибут очевидности и скрывает от нас подлинные тайны.
Отступивший было под натиском новой оптимистической мифологии страх, вызванный непознаваемостью мира, переродился теперь в подспудную, трудно осознаваемую тревогу. Как бы ни усердствовала мифология современной цивилизации, мир принципиально так и остается непознаваемым. Мы можем многое о нем узнать, но это не дает нам в руки никаких реальных инструментов воздействия, а все наши бесчисленные интеллектуальные инновации оборачиваются только новыми жизненными проблемами. В этих условиях культура, страшащаяся утраты своего абсолютного господства над конкретным человеком, усиливает репрессивные тенденции. Поскольку же мы сами являемся носителями этой культуры, репрессивные тенденции живут не где-то в эфемерных далях, а собственно в человеческих душах, мы занимаемся самоподавлением, мы боимся переступить границу дозволенного, которая нами же в принципе и определена. Нашу внутреннюю растерянность техногенная цивилизация пытается задобрить своими благами, но мы сторицей платим за это благоденствие своим душевным здоровьем.
Тревога, буквально парализовавшая человечество, остается большей частью совершенно неосознанной из-за отсутствия видимой угрозы. Но отсутствие осязаемого врага только ухудшает наше и без того тяжелое положение: мы не знаем, кого нам бояться, а потому, за неимением лучшего, боимся сами себя. Мы вынуждены ограничивать всякие проявления своего существа, полагая, что это единственный способ реальной защиты. Пересечение этой границы неизменно приносит нам страдание, словно бы от удара электрическим током, а боли изнеженный и тревожный человек боится больше всего на свете. Все наши видимые проблемы возникают именно тогда, когда мы пытаемся быть сами собой, делать то, что мы хотим, переживать то, в чем испытываем действительную потребность. Любить больно, это наносит нам урон, а потому мы начинаем думать, что любить – это вредно, опасно, даже, в определенном смысле, недостойно, и вот уже на любовь наложено почти священное табу. Мы не можем и боимся любить. Любовь противоречит целесообразности, ставшей культом для современного человека, окутанного удушающим дурманом страха, поэтому такое «чудачество» мы уже и сами не можем одобрить! Мы принуждены скрывать в себе все подлинно человеческое, и потому именно в нем, в подлинно человеческом, мы видим «настоящего» врага, способного, как кажется, принести нам несчастье.