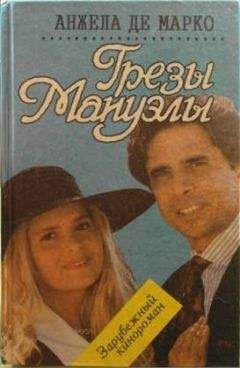Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон
Королева
Над речкой ива свесила седую
Листву в поток. Сюда она пришла
Гирлянды плесть из лютика, крапивы,
Купав и цвета с красным хохолком,
Который пастухи зовут так грубо,
А девушки – ногтями мертвеца[187].
Ей травами увить хотелось иву,
Взялась за сук, а он и подломись,
И, как была, с копной цветных трофеев,
Она в поток обрушилась. Сперва
Ее держало платье, раздуваясь,
И, как русалку, поверху несло.
Она из старых песен что-то пела,
Как бы не ведая своей беды,
Или как существо речной породы.
Но долго длиться это не могло,
И вымокшее платье потащило Ее от песен старины на дно,
В муть смерти…
Лаэрт
Офелия, довольно вкруг тебя
Воды, чтоб доливать ее слезами.
Но как сдержать их? Несмотря на стыд
Природа льет их. Или вон исходит
Все бабье в нас. Прощайте, государь,
В душе пожар, а эта дурья слабость
Мне портит все…
(Пер. Б. Л. Пастернака)
Нам кажется, что в этой романтической смерти не стоит винить ни несчастный случай, ни безумие, ни самоубийство. К тому же психоанализ научил нас отводить несчастному случаю надлежащую психологическую роль. Тот, кто играет с огнем, сгорит, хочет сгореть, хочет сжечь других. Тот, кто играет с вероломной водой, утонет, хочет утонуть. С другой же стороны, безумцы в литературе сохраняют достаточную разумность и достаточную детерминированность, чтобы объединиться с драмой, чтобы следовать закону драматического действия. Вне рамок действия они соблюдают единство этого действия. Итак, Офелия может служить для нас символом женского самоубийства. Поистине, она – создание, рожденное, чтобы умереть в воде; там она обретает, как говорит Шекспир, «свою стихию». Вода – это стихия юной и прекрасной смерти, смерти в цвету, а в жизненных и литературных драмах – еще и стихия смерти без гордыни и мщения, стихия мазохистского самоубийства. Вода – глубокий, органический символ женщины, которая умеет лишь оплакивать свои горести и глаза которой с такой легкостью «тонут в слезах». Мужчина, встретившись с таким женским самоубийством, воспринимает эту смертную муку – подобно Лаэрту – через «все женское, что есть в нем». Он снова становится мужчиной – вновь становясь «сухим», – когда иссякают слезы.
Есть ли необходимость подчеркивать, что образы, подобные образу Офелии в реке, не содержат ничего от реализма – вопреки перенасыщенности разнообразными деталями? Вовсе не обязательно то, что Шекспир имел возможность наблюдать реальную утопленницу, несомую вниз по течению реки. Такой реализм отнюдь не способствует созданию каких бы то ни было образов; напротив, он, скорее, препятствует полету поэтической фантазии. Если же читатель, который, возможно, никогда не видел такой картины, тем не менее узнает ее и приходит от нее в волнение, то это потому, что водный пейзаж с утопленницей относится к архетипическим грезам о природе. Это вода, представляемая в своей обыденной жизни, вода пруда, которая сама собою «офелизируется» естественным образом, покрывается спящими существами, которые предаются воде и, медленно умирая, плывут по воле волн. Кажется, что там, в смерти, плывущие утопленники все еще грезят… В «Бреде II»[188] образ этот использовал Артюр Рембо: flottaison blême / Et ravie, un noyé pensif, parfois descend…
VI
Что с того, что останки Офелии преданы земле? Поистине она, по словам Малларме, «Офелия, так и не утонувшая… сокровище, не тронутое бедою»[189]. На протяжении долгих столетий она все является сновидцам и поэтам, плывя по своему ручью, в цветах, с распущенными по волнам волосами. Она фигурирует в одной из самых прозрачных поэтических синекдох[190]. Она стала плывущей волной волос, расплетенных речным потоком. Чтобы лучше понять роль творческой детали в грезах, ни на миг не будем забывать об этом видении плывущей волны волос. Мы увидим, что она сама по себе оживляет весь этот символ психологии вод и одна объясняет почти весь комплекс Офелии.
Бесчисленны легенды, в которых феи источников без конца расчесывают свои длинные белокурые волосы[191]. Часто они забывают на берегу гребни из золота или из слоновой кости: «У русалок из Жера волосы длинные и тонкие, как шелк, и расчесывают они их золотыми гребнями» (р. 340). «В окрестностях Гранд-Бриер можно видеть женщину с распущенными волосами, в длинном белом платье; когда-то она там утопилась». В реке все вытягивается – и платье, и волосы; кажется, само течение гладит и причесывает волосы. Собственно говоря, на камешках брода сама река играет, словно ожившая шевелюра.
Порою волосы русалки бывают орудием ее козней. Беранже-Феро приводит сказку из Нижнего Люзаса, в которой русалка сидит на парапете у пруда и «расчесывает свои великолепные волосы. Горе тому неосторожному, кто подойдет к ней слишком близко, ибо он запутается у нее в волосах и полетит в воду»[192].
Самые надуманные сказки отнюдь не забывают об этой детали, создающей весь образ. Когда Трамарина из сказки г-жи Робер, не выдержав бремени забот и скорбей, бросается в море, ее тут же подхватывают русалки; они очень быстро переодевают ее «в газовое платье цвета зеленого моря, покрытого серебряным льдом» и распускают ей волосы, которые должны «ниспадать волнами ей на грудь»[193]. Чтобы сам человек поплыл по волнам, плыть у него должно все.
Как и всегда в царстве воображения инверсия образа доказывает его важность; она подтверждает его завершенность и естественность. Ведь распущенной волне волос достаточно лишь ниспадать – струиться – по нагим плечам, и она сразу оживит любой символ вод. В восхитительной поэме «К Энни», медлительной и незамысловатой, читаем такую строфу:
And so it lies happily
Bathing in many
A dream of the truth
And the beauty of Annie
Drowned in a bath
Of the tresses of Annie
(Poe E. For Annie)
Душа отдыхает,
Купаясь в тумане
Мечтаний о верной
Пленительной Анни.
И тонет в струящихся
Локонах Анни.
(Пер. А. Сергеева)
Та же самая инверсия комплекса Офелии ощущается в романе Габриэля д’Аннунцио «Может быть, да, может быть, нет» (Forse che si, forse che no). Служанка расчесывает волосы Изабеллы, а та сидит перед зеркалом. Отметим мимоходом инфантилизм сцены, в которой любящую женщину, как бы там ни было – пылкую и своевольную, – причесывают чужие руки. Этот инфантилизм, кроме всего прочего, благоприятствует грезам, связанным с упомянутым комплексом: «Ее волосы скользили, как медлительные воды, а с ними между забвением и воспоминанием скользили тысячи вещей из ее жизни, бесформенные, темные, податливые. И вдруг над потоком…» Какой тайной силой волосы, когда их расчесывает служанка, воскрешают в памяти ручей, прошлое, совесть? «Зачем я это сделала? Зачем я это сделала? И пока она искала у самой себя ответа, все исказилось, растворилось, снова потекло. Многократно повторяющееся движение гребня сквозь копну ее волос было подобно стародавнему заклинанию, и ему суждено было длиться до бесконечности. Ее лицо в глубине зеркала отдалилось, очертания его расплылись, затем оно приблизилось, вернувшись из глубины, но оно уже не было ее лицом».