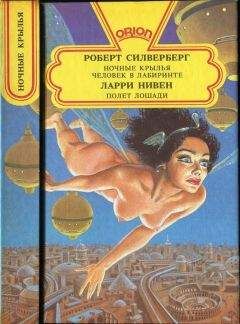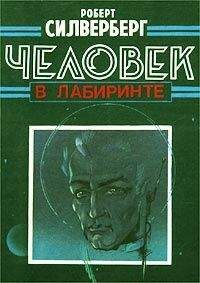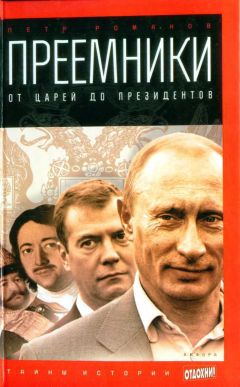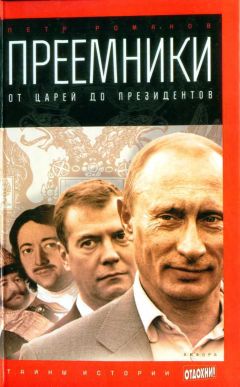Карен Свасьян - Человек в лабиринте идентичностей
8.
Трудности, открывающиеся при осмыслении двадцать третьей ступени, специфичны, между прочим, уже и тем, что они имманентны самой ступени, дальнейшее развитие которой попадает тем самым в прямую зависимость от возможности и степени их преодоления. Простой элементарный вопрос грозит стать выстрелом, влекущим за собой гигантские оползни и обвалы смысла: где, начиная с двадцать третьей ступени, свершается эволюция? Понятно, что местом свершения не может быть уже физическая природа, — по той причине, что там нечему уже свершаться; но если местом свершения физической эволюции является природа в традиционном смысле слова, как внешний мир, то продолжение этой эволюции по линии индивидуального предполагает адекватную, сообразную свершению топику, каковой может быть только человеческий внутренний мир·, мысль, чувство, воля, душа, или, говоря вместе с Гёте[115], «высшая природа внутри природы». Сознание, понятое так, и есть природа, перемещенная из безликих родовых общностей в единичное и поименное, как человеческая индивидуальность природы. Надо попытаться представить себе непредставимое, чтобы не потеряться в зеркальном кабинете псевдоидентичностей. Непредставимое: неосознанный, необъясненный, непонятный мир, мир, лежащий вокруг нас, как только чувственное восприятие. Он непредставим, потому что, представь мы себе его таким, мы бы не различали в нем ровным счетом ничего: всё лежало бы перед нами одинаково бессмысленным и индифферентным — не в том смысле, что мы жили бы в мире, не зная этого, а в том, что, не зная этого, мы жили бы уже не в мире, да и вовсе не жили бы, потому что мир и жизнь лежали бы по ту сторону сказанного и несказанного, разума и безумия, смысла и бессмыслия, и были бы — ничем, ούκ όν греческих философов. Непредставимое прекращается там, где вещь — в познании — обнаруживает себя, как мысль. Именно: нет вещи самой по себе, и нет тщетно пытающейся помыслить её мысли, а есть вещь, как мысль, если вещь находится уже не в непредставимом (как укон, или небытие не только действительного, но и возможного бытия), а в осмысленном (= познание).
Мысль — вещь, с которой снято чувственное лишнее и оставлена понятийная она сама, подобно тому как микельандже — ловские фигуры — это освобожденные мастером от лишнего куски мрамора. Если бы человеку удалось осознать меру своего участия в мировой эволюции, он звучал бы гордо уже не там, где это смешно и нелепо, а там, где это единственно уместно: осознавая себя, вслед за антропологом Топинаром, на ступени, «на которой блистают Ламарк и Ньютон». Различие внешнего мира и внутреннего мира представало бы уже не химерой субстанциального удвоения, а мыслью·, внутренний человеческий мир — это почувствованный, помысленный, поволенный, пережитый внешний мир: жизнь, преобразованная в переживание и, главное, сохраненная, как переживание. Характерно, что физика на этой — человеческой — ступени лежит в компетенции не столько «физиков», сколько «лириков», разумеется, не тех, кто кудахтает в рифмах или как попало, а тех, словам которых Бог доверяет свое молчание; нужно подумать об авторе «Дуинских Элегий», проговорившемся однажды о природе с такой необыкновенной точностью, каковую трудно представить себе даже в виде лепета или даже как смутную догадку у современных ему небожителей физики. Рильке:[116] «Природа, вещи нашего обихода и потребления преходящи и бренны; но пока мы здесь, они — наше владение и наши друзья, соучастники наших нужд и радостей, как они были уже доверенными наших предков. Следует, таким образом, не только не принижать и унижать всё здешнее, а как раз из — за их временности, которую они делят с нами, все эти явления и вещи должны быть поняты нашим внутренним разумом и преображены. Преображены? Да, потому что задача наша — так глубоко, с таким страданием и с такой страстью вобрать в себя эту преходящую бренную землю, чтобы сущность её в нас „невидимо“ снова восстала. […] У земли нет иного исхода, как становиться невидимой: в нас, частью своего существа причастных к невидимому, по крайней мере, имеющих свою долю в нем и могущих умножить за время нашего пребывания здесь наши невидимые владения, — в нас одних может происходить это интимное и постоянное превращение видимого в невидимое, уже больше не зависимое от видимого и ощутимого бытия — подобно тому, как наша собственная судьба в нас постоянно присутствует и постоянно невидима». По тому, как неадекватно мы воспринимаем этот отрывок, прочитывается вся симптоматика нашей умственной неполноценности. Критерии научности, вокруг которых мы радеем, как дикарь вокруг воткнутой в землю палки, таковы, что от «нас», научно объясненных, ближе дотянуться до крыс или обезьян, чем до «нас» же, увиденных в зеркале «Дуинских элегий». Поражает не слепота и беспомощность этой научности, а наглость её притязаний и нетерпимость, на фоне которой старый церковный прозелитизм выглядит всё еще достаточно мягким и деликатным. Было бы наивно рассчитывать на то, что, осознав свое банкротство, эта наука сама покинет сцену и уступит место новой и лучшей. Путь от науки, заведшей себя в тупик, к науке, открывающей будущее, тернистее и сложнее, чем путь от религии к науке, и мы лишь внесем нашу лепту в его неотвратимость, если научимся понимать цитированный выше отрывок из письма Рильке не как очередной поэтический каприз, а как — мировой закон, не уступающий по строгости закону всемирного тяготения.
9.
Важно понять: сознание, вопреки Брентано — Гуссерлю, не есть сознание чего — то, а само что — то·. не сознание вещи, а — вещь. Ощущение нелепости от этой фразы имеет источником уверенность, будто мы заранее уже знали бы, что есть вещь. Что же есть вещь? Говорят, одного наивного ответа на этот вопрос было достаточно, чтобы провалиться на экзамене у Германа Когена. Наивное (философское, как и обывательское) понимание вещи опирается на инстинкт «очевидности» и статуирует гетерогенность вещи и сознания. Ничего удивительного, что понятая так вещь автоматически оказывается «вещью в себе», после чего сознание способно лишь уставиться на нее, как баран на новые ворота. Но гетерогенность сознания и вещи имеет силу только в рамках чувственного восприятия; если мы не воспринимаем сознание, как саму вещь, а вещь, как само сознание, то оттого лишь, что нематериальное сознание мы размещаем в голове (как некое вполне «оккультное» свойство мозга, по сравнению с которым видёния госпожи Блаватской в «пещерах и дебрях Индостана» кажутся всё еще наивно правдоподобными), а материальные вещи во внешнем мире. Начиная с Аристотеля (De anima, II, 12), западная научная философия понимает под органом восприятия вещи способность принимать в себя чувственно явленные формы вещи без материи, потому что, как это остентативно поясняет Гуссерль, когда мы воспринимаем какую — либо вещь, не вещь входит в наше сознание, а наше сознание «направлено» на вещь. Очевидно, хроническому картезианцу Гуссерлю res cogitans, каким — то образом очутившаяся в res extensa, казалась менее невероятной, чем res extensa, попавшая в res cogitans, хотя, имей он в виду под вещью, скажем, бокал доброго мозельвейна или свежесть шварцвальдского воздуха, ему пришлось бы выбирать между очевидностями в картезианском и собственном феноменологическом смысле. То, что орган зрения, ухитряющийся подчас не видеть вещи, даже глядя на них в упор, обнаруживает меньшую склонность к очевидности, чем, скажем, орган обоняния, хоть и может быть отнесено к курьезам, но ничего не меняет по существу; более въедливая очевидность усмотрела бы даже в «паровой машине» зримую физическими глазами мысль её изобретателя. Допущение, что сознание направлено на вещь, имеет предпосылкой готовость вещи, каковая готовость, конечно же, сама изготовляется сознанием, то есть, сознание сначала конституирует вещь, как вещь, а потом уже интендирует её, как данность. Если бы западной философии удалось однажды осознать себя как историю своих болезней, то к числу наиболее запущенных принадлежала бы, несомненно, раздельность вещи и сознания (мысли) с заострением в фатальную оппозицию внешнего и внутреннего, где внешнее занимает привилегированную позицию «объективного» по отношению к «субъективному» внутреннему. Так, философ, в поисках истины, устранял себя, свое личное, как помеху, чтобы стать по возможности чистым (читай: безличным) приемщиком объективных — идеальных или материальных, всё равно — вещей. Эта болезнь оказалась, как сказано, настолько запущенной, что любая попытка указания на нее квалифицируется всё еще как эксцентричность или неадекватность. Похоже, философы предпочитают оставаться верблюдами, рассчитывающими попасть в царство небесное не через игольное ушко. Но разве же законы природы, открытые Ламарком и Ньютоном, потеряют свою объективность, если выяснится, что место их свершения, их «умное место», — внутренние миры Ламарка и Ньютона (= естественнонаучно объясненный внешний мир)! И разве мир идей Платона перестанет быть значительным, если мы опознаем в нем внутренний мир философа Платона, как потенцированный в философское мир эйкасии! Биологи могут долго еще уточнять и дифференцировать детали развития, вплоть и включительно до двадцать второй ступени естественной истории творения. Дальше им делать нечего. Дальше — больше. Ботаник прекрасно опишет и объяснит нам 300 или 400 видов дикой розы. Ему и в голову не придет объяснить нам заодно и гётевскую Heidenrößlein. Он предоставит это своему коллеге — литературоведу. По причине разности и несовместимости, так сказать, самих предметов: природы и поэзии. То, что предметы совмещены в целом мира, и дикая розочка на лугу объективно, естественно продолжается в гётевской, достигая в ней неувядаемое ™ (поэзия, по Гёте, «зрелая природа»),[117] к этой мысли придется еще долго и мучительно привыкать, пока она не станет столь же естественной и обычной, как её сегодняшний антипод.