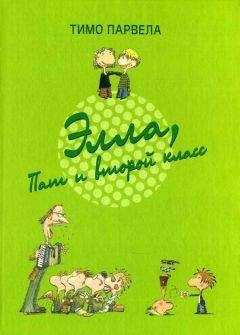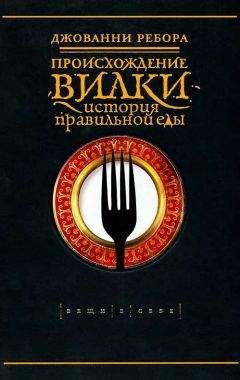Джованни Моска - Воспоминания о школе
В последний день учебы принято возвращать ученикам все, что было у них конфисковано в течение года: игрушечные пистолеты, игральные кости, стеклянные шарики, колоды карт. Но я этого не делал. Я нес домой то, что случалось отбирать у мальчишек, и сам играл их игрушками.
Матери, довольные тем, что их дети меня любили, все же не особо мне доверяли. «Слишком молоденький», — говорили они.
Идеальным учителем им казался пожилой господин, обязательно бородатый и с усами, способный навести ужас на весь класс одним лишь взглядом.
— Да уж, слишком молоденький. По четвергам на «археологической прогулке» играет с ними в футбол! Он скорей на старшеклассника похож, чем на учителя… Да и стихи они у него не учат!
Все матери похожи: они уверены, что учитель хороший, только если их дети учат наизусть торжественные патриотические оды и гимны, ну или, по крайней мере, стихи про сверчка.
Я же не заставлял своих мальчишек учить наизусть стихи. Я учил их многим интересным вещам, но незаметно: однажды я принес в класс цветок и устроил им наглядный урок ботаники, в другой раз искусно поймал муху — этот трюк восхитил их — и объяснил на примере, как устроены насекомые. Иногда я делил их на две группы, как на Джиро Д’Италия[1], — команды Альфредо Бинды и Леарко Гуэрры, и, если они хотели узнать, кто на этот раз победит, им нужно было решить задачку на вычисление времени. Так, из любви к спорту, они учились складывать в уме часы, минуты и секунды — делали с удовольствием то, что иначе было бы для них нестерпимо сложно. В общем, я учил их всему, кроме длинных витиеватых стихов. Мне было бы невыносимо слушать, как восьмилетний малыш читает наизусть оду. Зачем нагружать эти маленькие головы, которые думают о бабочках и мастерят подсвечники из мандариновых шкурок, тяжеловесными строками великого Мандзони?
И они были мне за это благодарны, мои мальчишки.
Однажды они пообещали, что подарят мне в конце года золотую авторучку на память. Когда наступил последний день школы, каждый из них дал по монетке: «Тридцать монет, синьор учитель, — подытожил Мартинелли, — можете купить себе большую золотую ручку…»
Тридцать монет — огромная для них сумма, на которую, правда, не купишь золотую ручку, но я взял ее не возражая, потому что просто-напросто не знал, что сказать: когда наступает последний день учебы, невозможно не растрогаться.
По правилам, конечно, учителям запрещено принимать подарки, но если бы я отказался от тех тридцати монет, я разбил бы тридцать маленьких сердец, мечтавших о том, чтобы у их учителя была большая ручка из чистого золота.
От подарков на Рождество я тоже не отказывался. За несколько дней до праздника матери моих мальчишек приходили прямо ко мне домой, держа нарядно одетого сынишку за руку. У каждой был при себе небольшой сверток. Для пущей важности я принимал их у себя в кабинете.
— Синьор учитель, как ведет себя этот негодник? — спрашивали они и потихоньку, деликатно так, клали сверток на стол.
Я же делал вид, что ничего не замечаю, а сам все думал, что же там внутри, с трудом дожидаясь, когда они наконец уйдут, — так не терпелось развернуть пакет. Пока же, подражая своим старым учителям, я повторял их фразы, те самые, которые столько раз слышал в детстве и которые производят впечатление на мамочек, заставляя их воздевать руки к небу и восклицать: «Вот так учитель!» Я отвечал:
— Ну, он мог бы учиться лучше, гораздо лучше, учитывая его способности…
Мать тут же начинала грозить сыну пальцем, срывала с его головы надетую для случая нарядную морскую кепочку и шептала сквозь стиснутые зубы: «И не стыдно тебе?»
— Болтает на уроках, — продолжал я, — отвлекается, бывает даже, что сильно меня сердит… Дома он как себя ведет?
— Плохо, синьор учитель, ой плохо, сил моих нет. Все время дерется с младшими.
Тогда и я принимался грозить пальцем несчастному малышу, который только согласно кивал головой в ответ на все упреки, и из глаз его прямо на штанишки падали большие слезищи.
— Но, — тут же добавлял я, — он будет вести себя лучше, я уверен, и будет… — это и была та самая фраза, к которой я вел, желая произвести впечатление на огорченную родительницу, — …доставлять только радость учителям и родителям, которые так его любят…
При этих словах малыш поднимал голову и смотрел на меня сквозь слезы, но с улыбкой. Довольная мама вставала и прощалась, я провожал их до двери. Спустившись на ступеньку, она говорила сынишке: «Попрощайся еще раз с синьором учителем», — тот прощался. Я смотрел на них с важным видом. Но как только за ними закрывалась дверь, я бросался к оставленному на столе свертку, звал сестру и брата, которые все это время подслушивали под дверью кабинета, мы вместе лихорадочно разворачивали подарок и, если это был пирог или вино, тут же устраивали пирушку, нахваливая заботливых мамочек.
Но чаще всего это была какая-нибудь чугунная чернильница в форме гондолы или стеклянный шар с собором Святого Петра внутри. Все это было безвкусно, но мне казалось красивым, и не хватало духу убрать эти вещицы со стола…
Вот почему в прошлом году, когда спустя много лет я вернулся в школу, мне захотелось сказать учителям, сгорающим от зависти к моей карьере и воображаемым сказочным гонорарам: «Не бросайте этих мальчишек. Пока живешь среди них, остаешься в чем-то на них похожим, и маленькие комнаты кажутся огромными залами, смешные картинки на стенах — прекрасной живописью, а стеклянный шар с собором Святого Петра внутри видится Бог знает чем — самой красивой вещью на свете».
II. Покорение пятого «В»
Мне было всего двадцать, когда, держа в кармане назначение учителем на испытательный срок и крепко-крепко прижимая руку к карману — таким сильным был страх потерять это желанное назначение, — я вошел в определенную мне школу и спросил директора. Сердце у меня бешено колотилось.
— Ты кто такой? — спросила меня секретарь. — В это время синьор директор принимает только учителей.
— Я знаю… я как раз и есть новый учитель… — ответил я, протягивая ей письмо.
Вздыхая, она прошла к директору, а через мгновение показался и он сам. Увидев меня, он схватился за голову.
— О чем они там у себя думают, в управлении? — закричал он. — Присылают мне мальчишку, когда мне нужен злой усатый великан с бородой, который поставил бы наконец на место этих сорвавшихся с цепи чертенят! А это кто — мальчишка… Да они его живьем съедят, как только увидят!
Потом, догадавшись, видимо, что это был далеко не лучший способ меня подбодрить, он улыбнулся, и, похлопав меня по плечу, спросил:
— Вам уже исполнилось двадцать лет? Должно быть, иначе бы вас не назначили. Но на вид вам самое большее шестнадцать. Вы смахиваете скорее на ученика старших классов, которого много раз оставляли на второй год, чем на учителя. И этот факт, не скрою, очень меня беспокоит. В управлении, часом, не ошиблись? У вас тут точно написано «школа Данте Алигьери»?
— Вот, — показал я драгоценное письмо, — «школа Данте Алигьери».
— Ну, да поможет нам Господь! — вздохнул директор. — Этих мальчишек еще никому не удавалось укротить: сорок дьяволят, организованных, вооруженных, у них и главарь есть — Гверрески. Последний учитель ушел от них вчера чуть не плача, а он пожилой был и опытный… Попросил перевод в другую школу…
С этими словами он недоверчиво посмотрел мне в лицо.
— Были бы у вас хотя бы усы… — пробормотал он.
Я сделал беспомощный жест, как бы показывая, что это невозможно, они у меня не растут. Он поднял глаза к небу: «Пойдемте».
Мы прошли по длинному коридору, по сторонам которого располагались классы: четвертый «Г», пятый «А», пятый «Б»… пятый «В»…
— Вам сюда, — сказал директор, остановившись перед дверью пятого «В».
Сказать, что из-за этой двери раздавался шум, — не сказать ничего: оттуда доносились вопли, стук железных шариков по доске, кто-то стрелял, кто-то пел, кто-то явно двигал и переставлял парты…
— Думаю, они строят баррикады, — прошептал директор.
Тут он горячо пожал мне руку и удалился, оставив меня одного перед дверью пятого «В».
Если бы я не ждал его целый год, этого назначения, если бы я и моя семья не нуждались так остро в учительской зарплате, может быть, я бы и ушел потихоньку и, возможно, по сей день пятый «В» школы Данте Алигьери ждал бы своего укротителя. Но мой отец, моя мать, мои братья и сестры ждали с нетерпением и с ножом и вилкой в руках, чтобы я наполнил их пустые тарелки. Так что я открыл-таки эту дверь и вошел.
В классе неожиданно воцарилась тишина. Я воспользовался ей, чтобы подняться на кафедру. Похоже, мальчишки были удивлены слишком молодым моим видом и не могли понять, старшеклассник я или учитель. Сорок дьяволят угрожающе сверлили меня глазами. Это было затишье перед битвой.