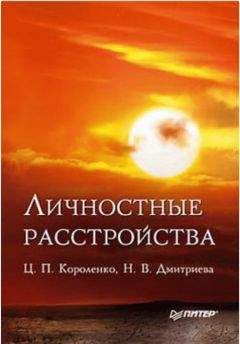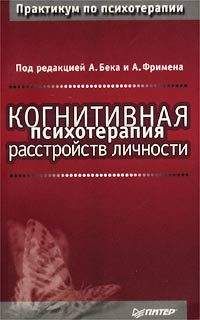Нарциссическая семья: диагностика и лечение - Дональдсон-Прессман Стефани
Джанин, однако, говорили, что ее тело — “сосуд греха,” и что ее единственная надежда на спасение заключается в самоотверженном служении другим. Словам «уверенность в себе» или «границы» не суждено было мало-помалу появиться в языке Джанин; они так никогда и не закрепились в ее мировоззрении каким-либо образом. Фактически, как она призналась после двух лет терапии, она никогда не пошла бы к врачу, если бы знала, что ее будут просить стать более уверенной в себе. Она обратилась к врачу, чтобы выяснить, почему у нее так мало сил, но уходя от нас впоследствии, она уже знала, что имела силы, которые ей никогда не разрешали исследовать.
В течение терапии, Джанин смогла определить, что у нее было совсем мало границ, если они вообще были. Она была замужем, с четырьмя детьми, и она была буквально рабыней для всех них.
Она чувствовала себя неспособной сказать «нет» практически каждому, кто просил ее о чем-нибудь, независимо от того, насколько несоответствующей или странной могла быть просьба. Она то и дело принималась заботиться о домашних животных соседей (несмотря на то, что имела аллергию на шерсть животных), нянчила чужих детей в любое время дня и ночи, возила в Бостон и обратно (два часа в каждый конец) соседа, с которым была едва знакома (и кто фактически был груб с ней и оскорбителен), всю ночь печатала четвертной реферат для своей дочери-подростка, хотя сама в это время болела воспалением легких и так далее, и так далее. Женщина не знала, что отказ — это тоже вариант ответа. В ее родной семье ее физически и устно оскорбляли за отказ и даже за отсутствие энтузиазма. Сказать «нет» было просто-напросто невозможно, такой вариант был исключен.
Врачу Джанин удалось ввести понятие, что существует средняя точка между тем, чтобы быть полностью недоступной (модель ее родителей) и полностью доступной (ее реактивное поведение), и что ей стоит оценивать просьбы и требования исходя из того, сколько у нее для этого есть времени, энергии и — интереса. Это было началом значительных изменений в жизни Джанин. Ответить «нет» теперь стало одним из вариантов, наряду с другими. Было, конечно, много и других проблем, какие Джанин приходилось решать в ходе терапии, но та идея, что отказ — это правомерный выбор, стала началом ее восстановления — преобразования ее расплавленного золота во что-то красивое.
Обвинение и конфронтация
Как мы упомянули прежде, пациенты, особенно те из них, кто глубоко религиозен, часто сообщали, что и раньше обращались к психотерпевту, но не могли продолжать курс, так как им объявляли, что они должны «возненавидеть», или «отвергнуть», или «противостать» родителям (или иному дисфункциональному попечителю ребенка, кто бы то ни был). Понятия обвинения и конфронтации не составляют сути нашей модели; это — индивидуальные вопросы, которые каждая пара «пациент/врач» решает в каждом конкретном случае по-разному. Работая в течение многих лет по этой модели, мы отметили, что пациенты чувствуют себя более способными войти в контакт со своим гневом, если врач не делает обвинительных высказываний. Поскольку у пациентов в этом случае не возникает потребности защитить родительскую систему, они становятся более способны посмотреть на нее реалистично.
Проблема конфронтации в нарциссической семье, где практиковалось насилие
Желание открыто противостать обидчику/насильнику, особенно в случаях сексуального принуждения и физической агрессии, побоев, часто бывает чрезвычайно сильным на ранних этапах лечения. Работая с жертвами сексуального насилия в семьях, мы обнаружили, что очень скоро после того, как воспоминания начинают всплывать в памяти пациента, у него возникает импульс (особенно если он мужского пола) немедленно побежать и призвать обидчика к ответу, чтобы «заставить его заплатить за то, что он сделал мне».
Конфронтация на этих ранних стадиях не работает. Пациент делает это по неправильным причинам и в процессе ранит себя душевно. В практике работы нашей группы, насчитывающей сотни случаев, мы убедились в том, что если врач считает конфронтацию преждевременной, а пациент, тем не менее, начинает ее, то он несет в результате ущерб. Теперь уже конфронтация становится предметом врачебного воздействия на долгие недели, и продвижение пациента по пути выздоровления затрудняется.
Конфронтация необходима и желательна для многих, но не для всех пациентов. Часто ко времени терапии преступник уже умер или сменил место жительства. В таких случаях используется один из символических жестов: разыгрывается ролевая конфронтация в кабинете врача, пишется и сжигается письмо, совершается визит на кладбище, куда пациент относит письмо или высказывает умершему, что он чувствует. Где это возможно, мы применяем прямую конфронтация в виде очной ставки потерпевшего и обидчика в кабинете врача, что часто является важным шагом в процессе выздоровления. Но это верно только в том случае, если пациент открывает противостояние, руководствуясь правильным мотивом. «Правильный мотив» имеет отношение к ожиданиям пациента — к тому, что он ожидает получить в результате конфронтации. Если он хочет мести, добиться извинения, причинить физический ущерб, заставить преступника признать, что тот когда-то сделал «и увидеть как он корчится», либо «проветрить отношения, чтобы начать с чистого листа» — такая инициатива потерпит неудачу. Фактически, если пациент хочет от обидчика вообще чего бы то ни было, такая встреча лицом к лицу не принесет ничего, кроме неудачи. Он выйдет из кабинета, чувствуя себя еще хуже, чем когда вошел в него, потому что все что он сделал — это вновь сыграл по старому сценарию. Он будет пытаться подействовать на систему родителя/обидчика, чтобы изменить его, управлять им или затронуть его — и не сможет. Он не имеет той власти, необходимых для этого рычагов управления. Конечно, он может все «предать гласности», но это — обоюдоострый меч; к таким вещам нужно подходить осторожно, тщательно взвесив их вместе с врачом. Правильная причина для конфронтации состоит в том, чтобы позволить потерпевшему сказать обидчику о том, что случилось, и что потепревший чувствует по поводу этого; как то, что обидчик сделал с ним, повиляло на его жизнь, на его отношение к себе и к миру; сколько боли обидчик причинил ему; и что он теперь чувствует в его адрес. Это чисто эгоистический акт. Он делается не для того, чтобы изменить обидчика или заставить его признать то, что он сделал. Встреча устраивается не для обидчика, — для потерпевшего. Наконец у потерпевшего появилась возможность сказать вслух о пережитом в детстве, обосновать этот опыт и поговорить о своих чувствах. Реакция обидчика не имеет значения. Когда пациент может написать письмо, или устроить встречу, не ожидая ничего от обидчика, конфронтация даст нужный результат. Пациент достигнет своей цели.
Врачу полезно предвидеть, что желание конфронтации вспыхнет преждевременно, и быть готовым удержать ситуацию под контролем. На ранних сессиях, когда у пациента только начинают всплывать воспоминания, иногда подобно вспышкам памяти, мы вводим возможность конфронтации как один из вариантов как поступить в будущем (отдаленном), но оставляем пациенту свободу выбора, захотеть или не захотеть конфронтировать. Когда у пациента возникает сильное преждевременное побуждение открыть конфронтацию, мы предлагаем ему повременить «до следующей недели». «Давайте на этой неделе не будем делать этого — дадим себе недельку на обдумывание». Или мы говорим так: «а почему бы вам не принести письмо сюда, прежде чем отправлять его? Мы можем вместе пройтись по тексту, чтобы удостовериться, что в нем ясно изложено именно то, что вы на самом деле хотите сказать». Мы честно говорим пациенту, что это преждевременно, и почему мы так думаем. Но мы говорим это бережно, оставляя «открытой дверь» до следующей недели или просим «принести письмо», чтобы у пациента не возникло чувства, что он наткнулся на стену отрицания.
Потом, если пациент начнет действовать и устроит конфронтацию вопреки нашей рекомендации, ему будет не так стыдно рассказать об этом нам, потому что мы оставляли «дверь открытой», даже если это была всего лишь щель.