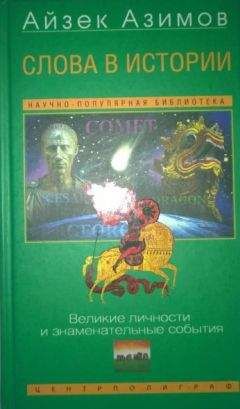Михаил Швецов - Госпожа тюрьмы, или слёзы Минервы
С. 132. «Самое милое дело для детдомовца — работать в обслуге», — говаривала в узком кругу дамочка из роно. Татьяна Семёновна в этот круг была вхожа и на первых порах «зарабатывала» авторитет в педколлективе тем, что добросовестно передавала нам, о чём шепчутся «наверху». Год спустя я, вспоминая эти «побрехушки», как их называла воспитательница первого класса, вдруг подумала: а может, не только в авторитете дело было? Может, ей было негласно поручено формировать наше мнение? Исподволь внушая нам, что мы должны были думать по этому или тому вопросу? Одна инспектриса из наробраза (по её словам) в открытую говорила о детдомовце: «Он генетически привык быть холопом, подчинённым, так что права качать не будет» (социальная изоляция навсегда?).
Или ещё один «трудный» — Олег Ханурин…
С. 134. Олега отвезли в детприёмник, а труп матери — в морг….Курил с пелёнок. В детском доме промышлял бычками. Молчун молчуном — поначалу его голос я слышала, лишь когда он кашлял. С наступлением осенних холодов кашель превратился в глухое буханье — «как в бочку»…Однако осмотреть себя врачу не давал….И начала лечить сама, как умела, — на ночь ставила горчичники, поила молоком с мёдом. Принимать лекарства отказался наотрез — рефлекс на «курс лечения» в психиатрической больнице, где в прошлом году ему устроили инсулиновый шок (как и большинству детдомовских пациентов)….
В психиатрическую больницу попал обманом — как и все остальные, впрочем. Бывало это так: ребят (чаще всего из школы) заманивали в автобус, подвозили к самому крылечку больничного корпуса, а оттуда два дюжих санитара тащили прямиком в отделение. И уже там (за двойной дверью) с ними беседовал врач.
Олегу повезло — врач в отделении была новенькая, установившихся там порядков не знала и потому лечила детей добросовестно. Олега — вниманием и заботой (моё выделение). На этот раз инсулинового шока ему удалось избежать («Отшибает память, когда в себя приходишь, — просвещали меня дети из других отделений. — А потом жиром обрастаешь, как свинья»…)
Их видно было за версту — по застывшему, без проблеска мысли, взгляду и по непомерно укрупнившейся фигуре. Одутловатые лица, жирные не по возрасту талии, на которых не сходились вчерашние одежды, — эта нездоровая полнота делала детей на год, а то и больше уродцами и превращала их в посмешище для всего детдома (а что в школе над ними творили — ужас!)
Проходило время, и они снова становились всё теми же «трудными», что и до «курса лечения». С тем только отличием, что в своём новом качестве были ещё тупее и нахальнее, чем обычные олигофрены, — работать ни под каким предлогом не хотели. Зато всякие гадости и «заподлянки» вершились ими с ещё большей охотой (потеря контроля и дезориентация в пространстве в большей степени, чем до лечения).
У Людмилы Семёновны [директора] была усиленно и щедро подкармливаемая ею и завхозом (которые, не будучи обременены господствующими научными теориями развития шизофрении, — в отличие от медицинских специалистов — прекрасно чувствовали, к чему приведёт изоляция детей) «армия наёмников» из «шизов» — так они этих ребят называли: их обычно использовали для укрощения непокорных. На моих глазах такая расправа была проделана над Игорем Жигаловым…»
Однако мощная воля лучшего учителя и воспитателя (пусть ей позволили творить чудеса всего лишь один год), обречённого любить детей (а значит и защищённого от шизофрении — ведь любящий и любимый не одинок!), дала настоящую жизнь лучшим росткам. Вот что пишет Лариса:
«С. 42. У Лили Кузенковой семья получилась хорошая. Очень. Хотя и не сразу. Родила дочку почти сразу после выхода из детского дома. Через год поняла, что помощи от отца ребёнка ждать не дождаться. Растила кроху в малюсенькой комнатушке коммунальной квартиры, воюя с соседями за право занять ванную для купания ребёнка или стирки. Себя не жалела, но делала всё, чтобы дочка росла здоровой, развивалась нормально. Когда я пришла к Лиле на «именины» ребёнка (дочке исполнился месяц), мои страхи — справится ли? — сами собой развеялись: эта мама ребёнка не бросит. Как бы трудно ни было! А ведь ей тогда едва исполнилось семнадцать!»
«С. 143. — Здрасьте! Не узнали? Ольга Николаевна!.. Это мы!
Куда там! Только по улыбке, чуток асимметричной и чертовски обаятельной, я узнала Олега. Своего дикарёнка… Из романтического юноши он теперь превратился во взрослого мужчину (с усами!), за широкой спиной которого надёжно и безбедно шествовали жена и двое детишек — сын и дочь. Работал он столяром-краснодеревщиком. Если бы у всех так сложилась судьба! Если бы всем удалось избежать сумы и тюрьмы!…Если бы…»
Уместно теперь познакомиться и с выводами-рекомендациями выдающегося педагога:
«С. 72. Не верю прекраснодушным фантазёрам, которые ратуют за исключительно «гуманные» методы: уговоры, добрый пример… Всё это хорошо. Но если ребёнок за проступок не наказан, подобное отношение его развращает. Сильной и гордой личностью никогда не наказываемый ребёнок не вырастет, уж будьте уверены! Оскорбляет детей не само наказание, как бы тяжело оно ни переносилось, — а несправедливость наказания, несоответствие тяжести наказания и проступка (Такие выводы не понравятся сегодняшним поборникам ювенильной юстиции, потому что едва ли ими движет подлинная любовь к детям — а скорее, всё те же интересы).
Многие педагоги подмечали, что личностно-состоятельные люди, альтруисты вырастают чаще всего из детей, воспитывавшихся строго. В нравственной строгости, а не в страхе перед наказанием — вот что важно. Этой тонкости многие не понимают, а кое-кто сознательно на этом спекулирует.
С. 74. Авторитаризм оправдывает себя только и только на очень коротком переходном периоде — от состояния хаоса к самоуправляемому коллективу. Чуть-чуть засидишься на этой фазе — и конец всем твоим благим замыслам! Далее — либо назад, к анархии, либо — к деспотии административной власти».
Детский дом прочно вошёл в сознание россиян как территория или «городок контрастов» (сегодня вместо привычного, поэтому до конца непонятого, в прошлом речевого оборота, употребляют убийственное слово «шок»). Мы узнаём, что
«С. 289. Однажды Татьяна Степановна мне сказала:
— Вы знаете, сколько у Людмилы [директора] всего дома?
И глаза её сделались размером со стёкла дымчатых очков. — Настоящая выставка! Антикварный магазин. И как это всё ей досталось, если приехала в Москву, простите, без смены нижнего белья? А сейчас — не прошло и десяти лет! — трёхкомнатная квартира! И причём — дети с нею не живут….Шефы дарят, а она половину самых ценных подарков к себе свозит.
— Если всё действительно так, то этим вопросом должна заниматься прокуратура.
— О! Прокуратура! — изумилась она моему дремучему невежеству. Знаете, в какую историю влипла ваша любимица Нора два года назад?.. С группой воспитателей, отчаявшись найти правду в наших инстанциях, они отправились к одному заслуженному работнику МВД… поделиться своими сомнениями. И среди шефов нашлись люди, готовые подтвердить, что часть ценных подарков, переданных детскому дому, перекочевали в обитель директрисы….Знаете, что он сказал?: — «Пусть каждый имеет столько, сколько хочет. И не дело граждан — считать чужие доходы!»
— В чём-то он прав, наверное… — нерешительно сказала я, очень удивлённая её рассказом.
— В «чём-то»? Да в том, что милиция заодно с ворами! Вот в этом он прав. (Когда власть начинает регулярно путать «принцип» реальности с принципом «удовольствия», то и ей можно посочувствовать). Они сговорились красть то, что плохо лежит, а плохо лежит всё. А чтобы совестливые граждане не вякали, они тут же политику шить начинают…Мол, пережитки сталинизма! Так что механизм хорошо смазан. И органы правопорядка, и Минпрос, и пресса — все на стороне воров. Вон опять очерк в газете тиснули — про «счастливое детство» под крылышком педагогини милостью божьей!
— Простите, а что было тогда, с милицией…Помните, когда ходили воспитатели по вопросу хищения шефских подарков?
— А! Тогда…И пошли эти дуры набитые — как же! Самые честные, самые принципиальные…Пошли четверо, вернулась в детский дом одна — Нора. Но уже не в воспитатели — в ночные…Интеллигентная женщина, а из упрямства работает сторожем….А остальные сейчас кто где: одна в дурдоме — признали паранойю, другая — вылетела с волчьим билетом. А две другие, и одна из них — Нора, получили такие анонимки, что хоть из города уезжай».
«С. 201. Вот наступила весна. И Лена опять заколобродила….Из милиции сообщили, что водит дружбу с ворами. А воры, надо сказать, жили себе не тужили весьма вольготно в нашем районе. Все знали, где притон, знали, куда они относят вещи на продажу, но… никто с ними войну не начинал (шизофрения власти?)».