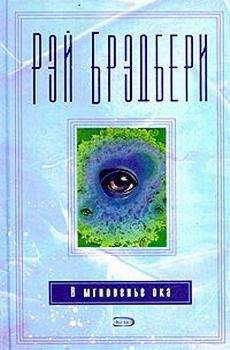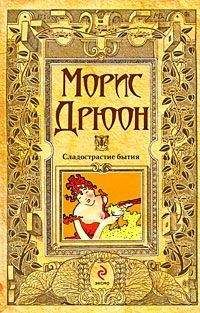Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
«Пробуждение весны» реализует именно эту, возможно единственную, возможность освободиться от того внутреннего подавления, которое стало уже нашей неотъемлемой частью, с которым мы сроднились, но которое точит и поедает нас изнутри. Подавление – это знак. Все действие спектакля – это процесс активного подавления, процесс выдавливания подавления. И загадочный Человек в черном, застывающий время от времени в позах микеланджеловских геркулесов, – яркое олицетворение этого знака. Муштра, которой подвергаются школьники, – элемент этого знака. Насилие, проходящее красной нитью через всю пьесу, – действие этого знака.
У Романа Виктюка есть удивительное чутье и понимание психологических механизмов. Так например, психологический механизм, вызывающий чувство подавленности и страха, – это соотношение объемов. Если спросить у человека, что он чувствует в моменты сильной тревоги, он ответит: «Я чувствую себя маленьким, слабым, беспомощным». А вот происходящее вокруг кажется ему неимоверно большим, давящим, каким-то немыслимым и всесильным. Этот психологический механизм использован и в постановочном решении спектакля. О противостоянии двух главных героев агрессивной толпе мы уже говорили. Но другой, может быть, не менее важный момент, вызывающий у зрительного зала чувство подавленности, – это сцена суда. В пьесе Ведекинда она звучит, как злая сатира, а у Романа Виктюка – как боль. Что же он делает?
Он увеличивает размеры обычных предметов в декорации – стола, стульев. На этом фоне человек просто теряется, он не может чувствовать себя «большим», когда стул, на котором он сидит, превышает его собственный рост, а стол велик настолько, что он может спрятаться в его ящике. В такой ситуации человек неизбежно чувствует себя «маленьким», ничтожным, а это не может не вызывать в нем чувство подавленности. Последнее же влечет за собой ощущение бессмысленности, одиночества, пустоты, хайдеггеровского «Ничто». Эта сцена не оставляет сомнения в дискурсивных отношениях Эроса и Танатоса: Танатос не внутри человека, не в его бессознательном, он снаружи, но подавление, оказываемое внешним, может быть столь сильным, что оно переходит вовнутрь и начинает действовать изнутри. Но не там его место и не там нужно с ним бороться. Если же силы Танатоса превосходят силу Любви – это трагедия, которая и явлена в спектакле Романа Виктюка.
Впрочем, действие психологического механизма соотношения объемов реализуется не только в указанном случае. Взлетающие в огромном количестве под своды сцены металлические миски также создают объем, на фоне которого человек автоматически чувствует себя слабым и подавленным. Музыкальное оформление спектакля в иные моменты заставляет зрителя буквально содрогнуться, а чудовищный звук гремящих, как цепи, мисок оказывает сильнейший психологический эффект. И это эффект подавления! Смысл этого приема подавить, чтобы освободить. И тот, кто готов чувствовать в театре, а в «Театре Романа Виктюка» это необходимо, сможет пережить и то, и другое.
«Анатомический театр»
Не менее важен и второй знак спектакля: знак расчлененного человека, знак, который непосредственным образом примыкает к знаку подавления. Какое впечатление произведет на вас расчленение ребенка? Да, это страшно… Но не этим ли занимается общество? Как мы относимся к своим детям? Нам кажется, мы их любим, поэтому и воспитываем, поэтому и наказываем. «Ведь надо же, в конце концов, чтобы наши дети были культурными и образованными». Но ощущают ли сами дети нашу любовь? Вспомните себя и свое детство, вспомните мамино «Перестань!» и папино «Нельзя!» Разве же не «разделывали» нашу детскую душу, как тушку на живодерне, таким «воспитанием»? А когда мы были готовы открыть самое сокровенное, когда готовы были и хотели любить, родители всегда оказывались или чересчур серьезными, или «очень занятыми». Любить для себя и любить так, чтобы это чувствовал другой человек, тот, кого мы любим, – это разные вещи. «Благие намерения» родителей разрывают детскую душу, мечтающую о любви, своими «надо» и «должен». Рефреном в сцене суда в ответ на слова Мельхиора: «Я должен…», звучит: «Вы должны молчать!» Именно поэтому, когда актеры расчленяют на наших глазах тельца детских игрушек, нам становится больно. Они разрывают души, а не тела. Впрочем, ассоциативный ряд этого знака на самом деле значительно глубже.
Кажется, что разорванные игрушки – это просто символ разрыва с детством. Ведь персонажи пьесы Ведекинда действительно переходят во взрослую жизнь, порывают со своим детством. Так следовало бы думать, если бы мы имели дело с «экранизацией» Ведекинда, но это не экранизация, это «драматургия Виктюка». И перед нами не символ утраченного детства, а Знак. Эта кукла – наша душа, чистая и светлая, но которой отказали в любви… Впрочем, это еще и тело, ведь отрывают реальные, хоть и игрушечные руки и ноги, голову отделяют от туловища, четвертуют и обезглавливают… Поэтому эта кукла еще и тело, которому тоже запретили любить, разорвали, чтобы оно не посмело любить. Так воспитывали нас, так теперь и мы воспитываем своих детей. Конечно, сейчас в ход идут не аисты, а бабочки и стрекозки, но в сущности остался все тот же ущербный зоологический лексикон. У современных «просвещенных» родителей паника в ответ на простые и совершенно непосредственные вопросы детей возникает автоматически, сама собой, на уровне подсознания, как продукт укорененного в психике сексуального подавления. И хотя они, как им кажется, готовы к «конструктивному диалогу», но их ответы звучат все с тем же плохо скрываемым ужасом, что и причитания несчастной мамы Вендлы. И ведь дети чувствуют это, понимают лучше всяких слов и запретов, и ведь дети начинают стыдиться телесного. А что из всего этого выходит?… «Входит и выходит»…
Отрицание плоти есть и отрицание духа, между ними нет «государственной границы», природой она не предусмотрена. А если в любви все-таки проложена граница между телом и душой – это уже не любовь, это «страдания по любви». После такой «анатомической операции», разделившей тело и душу, у нас есть только два пути. Или утешаться романтическими влюбленностями, которые снижают психологическое качество жизни. Или вступать в «половой контакт», «совершать коитус», то есть заниматься всем, чем угодно, но только не любить, ведь всем нам хорошо известно, что «заниматься любовью» можно и без любви. А вот просто и по-настоящему любить после проведения подобной демаркационной границы мы уже не можем! Так что получается или сюсюканье, или разврат. Или развратное сюсюканье, но не более того.
Тело нельзя отрицать, как нельзя отменить земное притяжение или потребность организма в кислороде, мы просто не можем этого сделать. Отрицай, не отрицай – ничего не изменится, а вот бед может произойти сколько угодно. Поэтому, что бы мы ни делали: то ли воспевали любовь без секса, то ли пропагандировали секс без любви, результат, поверьте, будет один и тот же: если не Танатос, то что-то подобное, но точно не Эрос, не Любовь и не Жизнь. Пародия на жизнь? – Да. Сатира на любовь? – Вполне. Надругательство над Эросом? – Точно. И это Знак. Знак реальности, знак, открыто и просто поданный зрителю четвертованием младенцев. Знак, не оставляющий места выбору, у нас просто нет другой альтернативы, у нас нет другого шанса. Если мы, конечно, хотим…
«Анатомический театр Романа Виктюка» – это не символ, это реальность, которую желающие, конечно, могут игнорировать, но даже они не могут ее отрицать.
Танец освобождения
О спектаклях Романа Виктюка можно слышать: «Это эклектика! Он делает шоу, это не театр!» Как нетрудно догадаться, все эти всплески удивительной интеллектуальной активности большей частью относятся к хореографической части его постановок. Остается только вспомнить Фридриха Ницше: «Я бы поверил только в такое божество, которое умело бы танцевать»… И если о Борисе Эйфмане восхищенно и заслуженно говорят: «Его балеты становятся настоящим драматическим действием», то обратное можно сказать и о театре Романа Виктюка. «Я не знаю, – пишет Ницше, – чем более желал бы быть дух философа, нежели хорошим танцором. Именно танец является его идеалом, его искусством, его, наконец, единственным благочестием, его богослужением».
Но танец, точнее, пластическое действие, в «Пробуждении весны» отличается не только от хореографического решения «Саломеи», но даже от стилистики танца в постановке «Философии» де Сада, хотя нельзя отрицать и очевидного пересечения этих линий. Понять специфику пластики «Пробуждения весны» без оглядки на два указанных выше знака невозможно. Подавление и расчленение – вот константы этого танца, танца жесткого, резкого, необычно отрывистого, эмоционально тягостного. Может ли подавленный и расчлененный человек танцевать иначе? Как может танцевать человек, закованный в броню мышечного напряжения (одного из элементов нашей психологической защиты)?