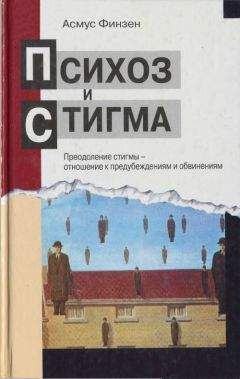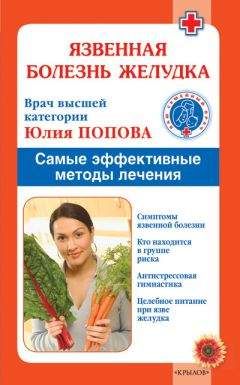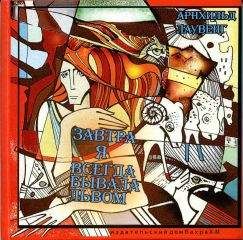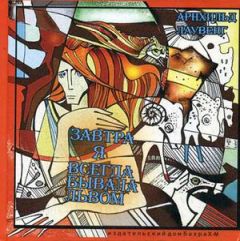Александр Данилин - Ключи к смыслу жизни
Второй источник — «даймон» Сократа. Это немного другое представление — о покровительствующем духе, который не поселяется внутри человека насильно, как в случае энтузиаста, а приходит к человеческой душе как внутренний спутник или друг. Существо это якобы посылается богами только к тем людям, которые чем-либо выделяются, то есть чем-либо замечательны — как, собственно, и сам Сократ.
В-третьих, конечно, слово «гений» имеет непосредственное отношение к культу героев. Во все времена и у большинства народов люди обожествлялись и создавался соответствующий культ, хотя сам по себе этот процесс с понятием «гений» ничего общего не имеет.
У Сципио описывается сновидение Цицерона: все лучшие люди после смерти снова встречаются в особенном месте, отведенном им на небе. Участники таких собраний в той же книге Сципио впервые стали называться гениями. Случилось это, как уже упоминалось, в середине XVII в.
Впрочем, само имя «Сципио» имеет прямое отношение к «дай-мону» Сократа. На латыни scipio — «жезл», «посох»; название связано с легендой о молодом человеке, везде сопровождавшем своего слепого отца, служа ему своего рода посохом. Метафорически Сципио — «посох души».
В сочинении Псевдо-Лонгина «О возвышенном» (это тоже XVII в.) восхваляются все прирожденные великие дарования и им придается статус божественных.
Наконец, в античной литературе известно сочинение «Вири Илюстрес», из которого следует, что все знаменитости составляют — или образуют — единое целое.
Однако подлинная персонификация духовных способностей человека, в особенности его творческой силы и гения, а также образование культа вокруг личности, живущей внутри поэта, происходит во время итальянского Возрождения. Надо заметить, что именно тогда появляется понятие «творческая сила», однако оно еще не включало в себя современное представление о творчестве или современное требование к оригинальности таланта. Тогда в эти слова вновь стал вкладываться платоновский смысл — некоего божества, поселившегося внутри поэта. Подразумевалась сила этого существа... сила демона.
Требование, чтобы в понятие «гений» включалось представление о созидании новых культурных ценностей, которое бытует сегодня, внесли на самом деле живописцы и инженеры эпохи Возрождения. В первую очередь это были, конечно, Леонардо да
Винчи в 1500 году и Джорджо Вазари на 50 лет позже. Дальнейшие уточнения понятия «гений» вносились в основном поэтами-романтиками. Например, легкость в создании новых идей, изобретательность, иррациональное, присутствующее в натуре гения; сохранялась и концепция «подпитки» гения от некоей божественной силы. Причем до времен Шелли из поэтических текстов следовало, что сила эта к богу доминирующей религии никакого отношения не имеет. Это — неведомая сила древних богов.
Только в эпоху барокко, около 1700 года, в романских странах: Италии, Франции, Испании, — особенно выдающихся людей стали обозначать словом «гений», намекая при этом на то, что в человеке живет неопределимая и непонятная божественная творческая сила. Эта сила представляет собой что-то вроде отдельной независимой личности, не имеющей прямого и непосредственного отношения ни к манере поведения, жизни и поступкам самого ее носителя, ни к сущности христианства.
Обратите внимание: когда-то в глубокой древности идеалом человеческой личности был «мудрец», а в Средние века — «святой». В эпоху Ренессанса им благодаря Макиавелли стал государственный человек, придворный. Наконец, уже во времена барокко в буржуазном обществе, в литературных кругах высшее господство было передано некой идеализированной личности гения — даже не самому человеку, а какой-то странной силе, которая скрыта у него внутри.
На самом деле поклонение гениальности — если, например, судить о нем на примере русского Серебряного века, — никогда не теряло религиозного оттенка. Ведь мы с вами часть своей потребности в Боге переносим на Пушкина и Блока, Цветаеву и Мандельштама, Тютчева и Есенина. Нам это кажется обычным и понятным, но на самом деле очень хочется чувствовать, что душами этих людей руководило какое-то неизвестное нам божество; поклоняясь поэту, мы ощущаем присутствие божественного духа между строк.
Вот что нам с вами предстоит обдумать, а может быть, и прочувствовать. Может быть, стоит отложить книгу? Не опасно ли это? Кто знает, что может завладеть душами человеческими, да и что владело душами тех людей, которых мы и по сей день считаем гениальными? Что владело душами Шеллинга и Шопенгауэра, которые сами развивали мистическое обожествление гения, что или кто владел душой Ницше и откуда пришел идеал Заратустры? Как же решить, поклоняемся ли мы с вами религиозному культу гениальности, его непостижимой тайне (все непостижимое становится объектом поклонения — его невозможно изучать по определению), или рассматриваем ее с психотерапевтической точки зрения, то есть как способность, которую можно развивать в человеке без угрозы для него?
Да только вот возможно ли?..
Беседа третья
Прорывы» и взрывное мышление. Упражнение «Реостат Теслы»
Давайте попробуем почувствовать, что же происходит с человеком, который считается гением. Попробуем понять, как прорваться сквозь одуряющую пелену скуки, что нужно сделать, чтобы найти новые идеи для собственной жизни. Опираться мы будем при этом на противоречивый, болезненный, странный, озаряющий, возвышенный, порой человеконенавистнический опыт гениальности.
Все, что нас окружает, создавалось не плавно и постепенно. История и культура, как и человеческое мышление, изменялись рывками, о которых мы упоминали в первой беседе. Прорывы в течении мысли создавали «скачки» исторического процесса.
Два главных рывка привели в небо — сделали нас способными летать. Первым было открытие Леонардо да Винчи, великого итальянца, жившего в XV веке и научившегося сочетать научный и художественный подходы при решении самых разных проблем. Он во многом ошибался, но ошибки его чаще всего касались окончательного, теоретического понимания явлений или предметов, а не его смелых идей.
В целом его представление о процессе полета носило неверный характер. Но вместе с тем как книга Мальтуса послужила толчком для Дарвина, так и выдвинутые Леонардо идеи относительно природы полета подтолкнули братьев Райт, которые изобрели пропеллер.
Внимательно изучая птиц, Леонардо анализировал, как они устроены. И Джорджо Вазари писал, что однажды мысль, «которая пришла к нему, как легкий ветерок», помогла ему понять: птицы могут летать не просто за счет взмахов крыльев, а потому, что они используют восходящие потоки воздуха. «Птицы, поднимающиеся вверх по спирали, — писал Леонардо, — держат крылья очень высоко, так, что клинообразный ветровой поток помогает им вознестись». В результате он сконструировал серию летательных аппаратов. Один из них напоминал вертолет с гигантским архимедовым винтом радиусом примерно четыре с половиной метра. Леонардо писал: «Думаю, если этот аппарат снабдить достаточно крепким вертикальным пропеллером, скажем, из прочного накрахмаленного холста, сильно его раскрутить, то он сможет подняться высоко вверх». Леонардо как будто уловил сходство двух различных вещей: он обнаружил связь между свойствами архимедова винта и принципами воздухоплавания. «Если придать винту форму пропеллера, — думал гений, — тот сможет удерживаться в воздухе, словно шуруп в доске, хотя и не столь надежно».
Форма разработанного Леонардо пропеллера требовала слишком много мышечных усилий, чтобы человек мог оторваться от земли. Для полета крупногабаритных аппаратов требовались значительно более мощные источники энергии, и только с появлением двигателей внутреннего сгорания братья Уилбер и Орвилл Райт смогли решить возникшую во времена Леонардо проблему летательных аппаратов тяжелее воздуха.
Кстати говоря, и к братьям Райт это решение тоже пришло внезапно. Но что-то еще, кроме внезапности озарения, всегда присутствует в механизмах, делающих жизнь осмысленной. Наверное, кто-то из читателей уже давно задумался и хочет спросить: почему наши беседы о гениальности больше похожи на лекции, а не на воображаемые спектакли в театре наших собственных фантазий, почему нам предлагают мало упражнений, ставших привычными для слушателей радиопередачи «Серебряные нити»?
Это происходит вот почему: для того чтобы человек имел право начать учиться взрывному мышлению, внезапным озарениям, он сначала должен научиться долго и тщательно думать над проблемой — концентрировать на ней свое внимание. Примерно так происходило с Дарвином и Леонардо, примерно так же это происходило и с братьями Райт.