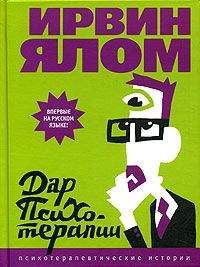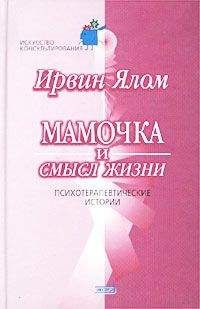Ирвин Ялом - Мама и смысл жизни
— Честное, но более мягкое, — сказал я. — Тогда врачи не лишатся лицензий, а отделаются выговорами.
Конечно, я лгал. Ни одна медицинская комиссия на свете не стала бы рассматривать такое письмо всерьез. Никто не поверил бы, что все врачи клиники вступили в заговор против Полы. Выговоры и отзывы лицензий были невозможны.
Пола погрузилась в себя, обдумывая мой совет. Кажется, она почувствовала, что я о ней забочусь, и, надеюсь, не поняла, что я ее обманываю. Наконец она кивнула.
— Ты дал мне добрый, полезный совет, Ирв. Именно то, что нужно.
Меня поразила злая ирония: только теперь, когда я обманул Полу, она сочла меня достойным доверия, а мою помощь — реальной.
Несмотря на чувствительность к солнцу, Пола настояла на том, чтобы проводить меня до машины. Надела свою широкополую шляпу, покрывало, обмоталась тканью, и когда я включил зажигание, потянулась в открытое окно машины, чтобы обнять меня в последний раз. Отъезжая от дома, я смотрел в зеркало заднего обзора. Фигура Полы сияла на фоне солнца, шляпа и полотняные покрывала источали свет. Подул ветерок. Одежды Полы затрепетали. Она казалась листком — трепещущим на ветке, готовым к полету.
В десять лет, предшествующих этому визиту, я посвятил себя написанию книг. Я выдавал их одну за другой. Такой производительности я добивался очень простым способом: писательство было для меня главным делом, и я следил, чтобы ничто другое ему не мешало. Я охранял свое время яростно, как медведица медвежат. Я вычеркнул из расписания все, кроме самого необходимого. Даже Пола попала в категорию необязательных дел, и у меня не нашлось времени позвонить ей еще раз.
Через несколько месяцев умерла моя мать, и пока я летел на похороны, я вспомнил про Полу. Я подумал о ее прощальном письме покойному брату — со всеми словами, которые она так никогда ему и не сказала. И стал думать о словах, которые так и не сказал матери. Да я почти ничего ей не сказал! Мы с матерью любили друг друга, но никогда не разговаривали откровенно, по душам, как два человека, тянущиеся друг к другу чистыми руками и чистыми сердцами. Мы всегда «обходились» друг с другом вежливо, говорили, не слыша друг друга, и каждый из нас боялся другого, обманывал, манипулировал им. Я уверен: именно поэтому я всегда старался говорить с Полой честно и откровенно. И поэтому мне было так неприятно, когда пришлось ее «обойти».
В ночь после похорон я увидел потрясающий сон.
Моя мать и множество ее друзей и родственников, все уже покойные, совершенно неподвижно сидели на ступеньках лестницы. Я услышал голос матери — она звала меня, выкрикивала мое имя изо всех сил. Особенно хорошо я ощущал присутствие тети Минни — она в полной неподвижности сидела на верхней ступеньке. Потом задвигалась, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и вот она уже вибрирует со страшной скоростью, как шмель. Тут затряслись и все, кто сидел на ступеньках, все покойники, все взрослые из моего детства. Дядя Эйб потянулся, чтобы ущипнуть меня за щеку, приговаривая, как обычно: «Сынок, дорогой». Потом и другие потянулись к моим щекам. Сначала щипали ласково, потом рассвирепели, и щипки стали болезненными. Я проснулся в ужасе, щеки пылали. Было три часа ночи.
Этот сон символизировал поединок со смертью. Сначала меня зовет покойная мать, и я вижу всех своих покойников, сидящих в зловещей неподвижности на лестнице. Потом я пытаюсь отрицать мертвенную неподвижность, хочу вдохнуть в мертвых движение жизни. Особенно важен образ тети Минни. Она умерла годом раньше, после обширного инсульта, полностью парализовавшего ее на несколько месяцев. Она не могла двинуть ни одним мускулом, за исключением глаз. В моем сне Минни начинает двигаться, но быстро выходит из-под контроля и впадает в исступление. Дальше я пытаюсь избавиться от страха перед мертвыми, представляя, как они ласкательно щиплют меня за щеки. Но мой страх снова прорывается наружу, щипки становятся яростными, злобными, и страх смерти осиливает меня.
Образ тети, вибрирующей, как шмель, потом долго меня преследовал. Я подумал: может быть, это послание означает, что мой собственный лихорадочный ритм жизни — всего лишь неуклюжая попытка заглушить страх смерти. Может быть, этот сон говорит, что мне надо притормозить и заняться тем, что для меня по-настоящему ценно?
Мысль о ценности опять напомнила мне Полу. Почему я ей не позвонил? Это она играла в гляделки со смертью и заставила ее опустить взгляд. Я вспомнил, как она руководила медитацией в конце наших встреч: уставив взгляд на пламя свечи, звучным голосом ведя нас вглубь, к спокойствию. Говорил ли я ей хоть раз, что значили для меня эти моменты? Столько всего я ей так и не сказал. Скажу теперь. В самолете, летя домой с похорон матери, я дал себе обещание возобновить дружбу с Полой.
Но так и не выполнил его. Я был слишком занят: жена, дети, пациенты, студенты, письменные труды. Я делал свою норму, по странице в день, игнорируя все остальное — все прочие разделы своей жизни. Они должны были ждать, пока я закончу книгу. И Поле тоже приходилось ждать.
Но Пола, конечно, ждать не стала. Через несколько месяцев я получил записку от ее сына — мальчика, которому я когда-то завидовал, что у него такая мать, того самого сына, которому она много лет назад написала такое замечательное письмо о своей приближающейся смерти. В записке были простые слова: «Моя мать умерла. Я уверен, она хотела бы, чтобы вы об этом знали.»
Южное гостеприимство
Я свое отработал. Пять лет. В течение пяти лет я каждый день вел терапевтическую группу в психиатрическом отделении больницы. Ежедневно в десять утра я покидал свой уютный, уставленный книжными шкафами кабинет на медицинском факультете Стэнфордского университета, ехал на велосипеде в больницу, входил в отделение, морщился от первого вдоха липкого воздуха, насыщенного запахами дезинфекции, наливал себе кофе с кофеином из особого термоса для персонала (потому что пациентам не полагалось никакого кофеина, как не полагалось и табака, алкоголя, секса; полагаю, это делалось намеренно, чтобы пребывание в больнице было максимально неуютным и пациенты поскорее выписывались). Затем я расставлял стулья в круг в общей комнате, вытаскивал из кармана дирижерскую палочку и восемьдесят минут дирижировал встречей терапевтической группы.
В отделении было двадцать коек, но на группу ходило гораздо меньше народу — иногда лишь четыре или пять человек. Я был разборчив в смысле клиентуры и принимал только хорошо функционирующих пациентов. Каков был критерий отбора? Тройная ориентация: во времени, пространстве и личности. Члены моей группы должны были знать, какой сейчас год, день и час, кто они такие и где находятся. Я не возражал против психотических участников (главное, чтобы они вели себя тихо и не мешали другим работать), но требовал, чтобы каждый член группы был в состоянии говорить, следить за происходящим в течение восьмидесяти минут, а также признавал, что нуждается в помощи.
В любом престижном клубе есть свои условия приема. Возможно, из-за моих требований к участникам терапевтическая группа — «программная группа», как я ее называл, а почему, объясню позже — становилась более привлекательной. А что же те, кого не допускали в эту группу — пациенты с более сильными расстройствами и регрессиями? Для них предназначалась другая группа, существовавшая в отделении — «группа общения». Ее встречи были короче. Кроме того, они были сильнее структурированы и предъявляли меньше требований к участникам. И, конечно, среди больных всегда попадались отщепенцы — люди с поврежденным интеллектом, не способные сосредоточиться, агрессивные или маниакальные; те, кто не мог приспособиться ни к какой группе. Некоторых перевозбужденных пациентов-отщепенцев допускали в группу общения, предварительно хорошенько успокоив их лекарствами — например, через день-другой после поступления в больницу.
«Допускали»: это слово заставило бы улыбнуться даже полностью ушедшего в себя пациента. Нет! Буду честен. В истории больницы не случалось, чтобы возбужденные пациенты колотили в дверь комнаты, где проходит встреча группы, требуя, чтобы их тоже туда пустили. Гораздо вероятней была другая сцена: перед встречей группы санитары и медсестры в белых халатах несутся по отделению, выковыривают участников из потайных мест в стенных шкафах, туалетах, душевых и гонят в групповую комнату.
У «программной группы» сложилась определенная репутация: в ней было трудно, приходилось напрягаться, а главное — все было на виду: негде спрятаться. Никто из обитателей отделения не ломился в чужую группу. Пациент более высокого уровня скорее умер бы, чем по своей воле оказался в «группе общения». Если же какой-нибудь менее функциональный пациент случайно забредал на встречу «программной группы», то, стоило ему выяснить, где он, глаза его тут же заволакивались пленкой страха, и он живо исчезал без посторонней помощи. Технически существовала возможность перехода с повышением — из группы низкофункциональных пациентов в группу высокофункциональных, но, как правило, пациенты не оставались в больнице достаточно надолго. Таким образом, пациенты были неявно разделены по сортам; и каждый знал свое место. Но вслух об этом не говорилось.