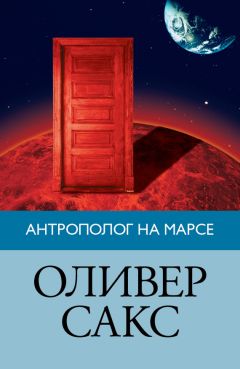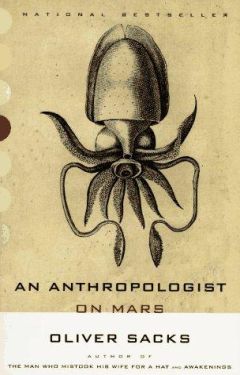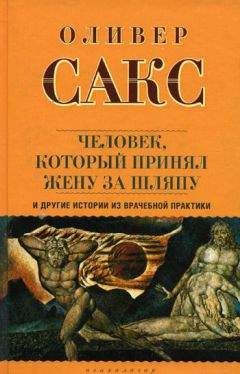Оливер Сакс - Антрополог на Марсе
Промежуточный мозг является регулятором сна, аппетита, либидо. В результате его повреждения Грег утратил интерес к сексу, еде. Он никогда не жаловался на голод и ел только тогда, когда ему предлагали. Казалось, Грег живет только сиюминутным, реагируя лишь на текущие раздражители.
Оставаясь один в палате, Грег мог часами сидеть в кресле-каталке, не проявляя активности. Видя его в таком состоянии, медсестры шепотом говорили, что он «размышляет», а кришнаиты сочли бы, что он занимается медитацией. Я же такое состояние своего пациента расценил как «умственное безделье». Впрочем, такое состояние Грега было трудно расценить однозначно, ибо оно не походило ни на сон, ни на бодрствование, и, скорее, было лишено всякого содержания. Пожалуй, оно походило на заторможенность, безучастность к окружающей обстановке некоторых моих пациентов, перенесших энцефалит, выразившийся в поражении промежуточного мозга. Когда с таким больным заговаривали или рядом включали музыку, то «включался» и он.
Таким же образом «включался» и Грег. В совокупности это его состояние объяснялось повреждением лобных долей головного мозга и прежде всего их глазничных частей, что выразилось в глазнично-лобном синдроме. Лобные доли — наиболее сложные части мозга, объединяющие суждения, воображение и эмоции человека в единое целое, которое обычно называют «индивидуальностью». Повреждение других частей мозга приводит к расстройствам подвижности, речи, памяти, мыслительных способностей, чувственных восприятий. Повреждение лобных долей, не влияя на эти расстройства, приводит к деградации «личности».
Когда родители Грега встретились с сыном в 1975 году, они, естественно, пришли в ужас, увидев, что сын ослеп, ослаб и потерял память. Но более всего они поразились тому, что изменился его внутренний мир, ставший бессодержательным. Повторю, как отозвался о нем отец: «Словно его вычерпали напрочь, пустой внутри». Уже тогда, по словам отца, Грег отпускал «идиотские» комментарии по всякому поводу и сомнительные остроты, звучавшие поистине дико на фоне его тяжких недугов.
Такого рода «остроумие» характерно при глазнично-лобном синдроме и даже получило свое собственное название — witzelsucht.[50] Больные, страдающие этим недугом, при отсутствии сдерживающих начал непроизвольно, по-своему, реагируют на каждую мысль, на каждое ощущение, на каждое слово, на каждого попавшего в поле зрения человека — и зачастую с помощью рифмоплетства или импровизированных «острот». Однажды, сидя у Грега и увидев прошедшего мимо палаты больного, я сказал: «Прошел Джон». Грег молниеносно отреагировал: «Джон протопал, как слон». Вскоре в палату вошла няня и сообщила: «Ланч подан». Грег, улыбнувшись, проговорил: «Значит, и сюрприз уготован». Няня спросила: «С цыпленка снять кожу?» Грег снова «не сплоховал», отреагировав так: «Цыпленок тот же ребенок, зачем с него снимать кожу?» Сбитая с толку няня задала новый вопрос: «Вы хотите цыпленка с кожей?» Грег ответил: «Снимайте. Я просто сказал присловье».
В известном смысле Грег был необычайно чувствителен, восприимчив, но эта его чувствительность страдала отсутствием избирательности. Он одинаково реагировал на любой раздражитель: и на шутливое замечание в его адрес, и на житейское сообщение, и на серьезную информацию.[51] У больных, страдающих глазнично-лобным синдромом, в реакции на внешние раздражители нередко присутствуют игровые мотивы, детская непосредственность, что в определенной пропорции не является недостатком и здорового человека, но у Грега эта детская непосредственность вкупе с его «острословием» превратилась в странную доминанту, и потому разум его, не потерявший полностью знаний, усвоенных до болезни, потерял самостоятельность, «индивидуальность», став заложником мимолетных, кратковременных ощущений. Французский невролог Франсуа Лермитт указывает на зависимость людей, страдающих глазнично-лобным синдромом, от окружающей обстановки, и говорит об их неспособности психологически дистанцироваться от внешнего мира. Это справедливо и для Грега: он «цеплялся» за внешний мир, зависел от окружающей обстановки, она порабощала его.[52]
Для здорового человека сон и бодрствование — различные функциональные состояния. Сон характеризуется значительной отключенностью от сенсорных воздействий внешнего мира. При бодрствовании человек воспринимает эти воздействия.[53] Однако у Грега граница между бодрствованием и сном, казалось, стерлась, размылась, а получившийся синтез явился «сном наяву», вместилищем образов и фантазий, совмещенных с бодрствованием ума.[54] Проявления этого синтеза рождали удивительные картины, иногда приближавшиеся к сюрреалистическим образам, и заключались в процессе, который Фрейд, давая характеристику сновидениям, назвал «смещением, искажением и даже выпадением из памяти наяву».
Полусонное состояние было обычным для Грега, а когда он выходил из него, то его поведение зачастую напоминало образ действий ребенка, сочетавшийся с дурашливым остроумием. Абсурдные, а порой афористические изречения Грега вкупе с его обычным спокойствием, безмятежностью стяжали ему репутацию человека, сочетавшего в себе невинность, умиротворенность и мудрость — впрочем, славу двусмысленную: не от мира сего святого.
Заболев, Грег стал «другим» человеком, утратив в известной степени былую индивидуальность и приобретя новую — необычную, но весьма примитивную. И все-таки надо отдать ему должное. Если, находясь в одиночестве, он проявлял мало активности, то в компании он преображался, «включался», становясь общительным, интересным и даже достаточно остроумным. К окружавшим он относился доброжелательно, и они платили ему взаимностью. А если в речах его порой сквозило излишнее легкомыслие или он терял нить разговора, то это объяснялось не его пренебрежением к собеседникам и не его невниманием, а следствием болезни. В клиниках с хроническими больными обычно унылая, гнетущая атмосфера, и такой пациент, как Грег, никогда не пребывавший в унынии, когда находился в обществе, был как раз тем человеком, который мог поднять настроение у других пациентов, заразив их своим весельем и добродушием.
Несмотря на болезнь, у Грега сохранились энергия, жизнестойкость, нашлись подспудные силы, позволявшие ему быть жизнерадостным, находчивым и веселым, что привлекало к нему внимание. Дерзость, непослушание, агрессивность, свойственные Грегу до его сношения с кришнаитами, бесследно исчезли. Он казался умиротворенным, блаженным. Его отец, намучившийся с сыном в те времена, когда они жили вместе, как-то сказал мне при встрече в госпитале: «Глядя на Грега, складывается впечатление, что его подвергли лоботомии». Затем, усмехнувшись, он добавил с горькой иронией: «Лобные доли — кому они нужны?»
Одной из особенностей головного мозга человека является значительная величина его лобных долей. У обезьян эти части мозга развиты гораздо меньше, а у других млекопитающих они и вовсе малы. Лобные доли в основном развиваются после рождения человека, увеличиваясь в размере примерно до его семилетнего возраста. Изучение функций лобных долей головного мозга имеет продолжительную историю, но в полной мере это функционирование не изучено до сих пор. Эта неопределенность хорошо иллюстрируется невероятной историей, приключившейся в сентябре 1848 года с Файнизом Гейджем — случаем, которому и по сей день пытаются найти научное объяснение.
Файниз Гейдж, железнодорожный мастер, однажды работал на путях близ Берлингтона, Вермонт, закладывал взрывчатку в шпур, готовясь к взрыву. Он наклонился над шпуром и утрамбовывал порох железным прутом весом в тринадцать фунтов и длиной около ярда, который был заострен на верхнем конце. Никому и в голову не могло прийти, что при ударе железный прут может высечь искру, отчего взорвется порох. Но именно так и произошло. Порох взорвался, и железный прут выскочил из шпура, как пуля. Острым концом прут ударил Гейджа снизу в скулу и прошел насквозь через голову. Несмотря на страшную травму, Гейдж не потерял сознания. Он упал на спину и оставался в оглушенном состоянии несколько минут. Товарищи доставили его в ближайший медицинский пункт, где ему оказали первую помощь, удалив прут. Все это время Гейдж оставался в сознании и даже отпускал врачу шутки.
Через некоторое время после происшедшего с ним несчастного случая у Гейджа развился абсцесс соответствующей лобной доли, но врачи успешно справились с осложнением, и в начале 1849 года его выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, поставив многих светил медицины в тупик: как человек сумел выжить после такой тяжелой травмы? Однако этот невероятный случай заставил специалистов подтвердить укоренившееся суждение: лобные доли мозга не наделены функциями, которые нельзя компенсировать функционированием других частей мозга. Это суждение основывалось на исследованиях френологов, которые в начале XIX столетия согласно сочли, что умственные способности и моральные качества человека зависят от функционирования всех частей мозга. Эта теория получила столь большое признание, что мозг стал рассматриваться некоторыми учеными таким же целостным, как и печень. К этой мысли склонился даже известный французский физиолог Пьер Жан Мари Флуранс, заявивший: «Секреты[55] мозга схожи с секретами печени».