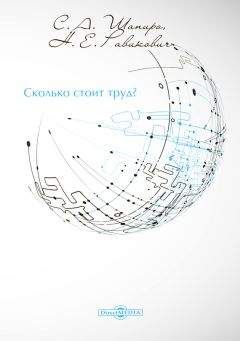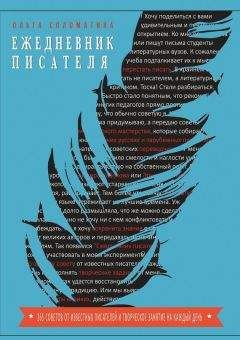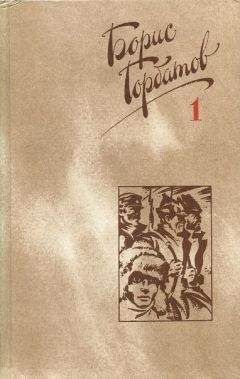Александр Цейтлин - Труд писателя
10) не особенно планета наша для веселья оборудована;
11) планетишка наша к удовольствиям не очень оборудована;
и, наконец, последняя, 12-я:
12) для веселия планета наша мало оборудована».
«Поверь, что легкое, изящное стихотворение Пушкина... потому и кажется написанным сразу, что оно слишком долго клеилось и перемарывалось...» Это замечание молодого Достоевского всецело соответствует действительности. Работе стихотворца присуща тем большая трудоемкость, чем взыскательнее к себе поэт. Маяковский блестяще показал в статье «Как делать стихи», «сколько надо работы класть на выдел нескольких слов» и как необходим поэту непрерывный и каждодневный труд. Именно этот процесс неустанной работы над материалом позволяет Гюго донельзя бледный первоначальный набросок превращать в законченный стих, богатый внутренним содержанием. В большей или меньшей мере это явление трансформации в процессе труда свойственно текстам любого поэта.
Драматургия
Если в области лирики и эпоса писатель чувствует себя полностью в своей сфере, то в работе над драматическим произведением он в известной мере выходит за границы литературы.
Драма — труднейший род поэтического творчества. Здесь нет обычных для лирики и эпоса описаний и психологических характеристик, здесь как будто нет и самого автора — мы имеем здесь дело только с одними персонажами. «Истинный драматический поэт, — писал Лессинг, — постарается так задумать характеры действующих лиц, чтобы те происшествия, которые вызывают его героев к деятельности, вытекали одни из других с такой необходимостью, а страсти так строго гармонировали с характерами и развивались с такой постепенностью, чтобы мы всюду видели только естественный, правильный ход вещей».
Горький следующим образом характеризует своеобразие драмы: «В романе, в повести люди, изображаемые автором, действуют при его помощи, он все время с ними, он подсказывает читателю, как нужно их понимать, объясняет ему тайные мысли, скрытые мотивы действий изображаемых фигур, оттеняет их настроения описаниями природы, обстановки и вообще все время держит их на ниточках своих целей, свободно и часто — незаметно для читателя — очень ловко, но произвольно управляет их действиями, словами, делами, взаимоотношениями, всячески заботясь о том, чтобы сделать фигуры романа наиболее художественно ясными и убедительными. Пьеса не допускает столь свободного вмешательства автора, в пьесе его подсказывания зрителю исключаются».
Именно поэтому персонификация в драме особенно интенсивна: действующие лица вполне замещают собою их создателя. Характеры их концентрированы в своих переживаниях и поступках. Предельно уплотнен и драматический сюжет, в котором мы всегда сталкиваемся с борьбой противоположных начал.
Драма — это «поэзия действия», и притом максимально уплотненного действия; стремясь к тому, чтобы «маркиз Поза завоевал безграничное доверие короля», Шиллер знал, что трагедия предоставит ему для этого «только одну сцену», и одной этой сценой он добился того, что в эпосе потребовало бы многих глав и частей. Действие драмы обыкновенно более однопланно, чем эпическое действие: здесь нет ни отступлений, ни вводных эпизодов; только самые необходимые моменты объединены между собой железной логикой безостановочно развивающегося, «сквозного», действия. Если все перечисленные признаки драмы не соблюдены, мы, в сущности, не имеем и драматического произведения.
Для выяснения художественной специфики драматургии чрезвычайно характерно письмо Островского писательнице Шабельской, в котором он между прочим пишет: «Я прочел обе ваши пьесы и убедился, что драматическая форма вам незнакома. «Ночь на Иванов день» представляет ряд сцен, которые грешат затянутостью (в повести всякая верная бытовая подробность — достоинство, а для сцены — недостаток), случайностью развязки, что в драматическом произведении не должно быть, и раздвоением интереса... «Господа Лапшины» есть повесть в драматической форме, а никак не драма: представлять целый ряд событий, разделенных большими промежутками времени, не должна драма, — это не ее дело; ее дело — одно событие, один момент, и чем он короче, тем лучше».
Арбузов справедливо указывает на громадную трудоемкость работы драматурга. «Пьеса, — замечает он, — по объему труда равна роману. Несмотря на то что в романе может быть шестьсот страниц, а в пьесе только эти «роковые» восемьдесят пять, по сложности работы она приравнивается к роману. И когда писатель понимает, что... выбора больше нет, он будет писать эту пьесу... в эту минуту решения он должен очень точно рассчитать и расположить свои силы... драматургов можно приравнять к марафонцам — они бегут сорок два километра».
Однако трудности работы драматурга не ограничиваются этим — ему приходится постоянно ориентироваться на сценическую интерпретацию своего текста. Арбузов неправ, утверждая, что драматург прежде всего работник театра и в этом смысле гораздо ближе стоит к актеру и режиссеру, чем, скажем, к своему собрату — писателю, не работающему в театре. Считать так — значит преуменьшать роль драматурга как писателя. Драматург — прежде всего мастер литературного творчества, театр для него хотя и необычайно важное, но все же вторичное место приложения его труда. Довод Арбузова, что «многие драматические писатели... были актерами, режиссерами и директорами театров», ничего еще не доказывает. В частности, к этой категории нельзя причислить ни одного из величайших русских драматургов. Фонвизин и Крылов, Грибоедов, Пушкин и Гоголь, Тургенев и Сухово-Кобылин, Л. Толстой и Чехов, Горький и Маяковский вовсе не были профессиональными актерами, режиссерами и директорами театра. Все они представляли собою «только» писателей, работавших в области драматургии.
Вместе с тем нужно признать, что пьеса, как правило, предназначена для театрального исполнения и только в нем полностью обнаруживается скрытая в ней творческая энергия. Эта сценическая функция в огромной мере повышает значение раздающегося на театре поэтического слова. Язвительные слова Фигаро по адресу аристократов, которые «дали себе труд только родиться», не имели бы такого обличающего эффекта, если бы они были вложены Бомарше в уста какого-либо эпического героя. Именно страх увидеть на сцене «Тартюфа» обострил сопротивление Мольеру «словоохотливых ревнителей» католицизма, которые, говорил он, «благочестиво меня поносят и милосердно меня проклинают».
Театральные подмостки возбуждают и драматурга, который должен занимать в пространстве два места: на сцене — среди своих персонажей — и в кресле зрительного зала. Гоголь не может работать над пьесой, не имея в виду «театр и зрителей», которые возникают перед ним как некий коллективный образ, тревожащий писателя в самом разгаре его творческой работы. «Примусь за Историю — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент; рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и История к черту». Сопоставим с Гоголем Грибоедова, которого «ребяческое удовольствие слышать стихи» его на театре заставляло порою жертвовать некоторыми своими заветными замыслами и тем самым «портить» свое создание.
Поскольку «драматическое произведение только на сцене получает свою окончательную форму» (Островский), драматург должен свести объем своей пьесы до сравнительно недолгого представления. «Строительство пьесы — архитектоника — определяется тем, что зритель за два с половиной часа должен воспринять законченную историю группы персонажей. При созерцании реальной жизни на это требовались бы годы, при чтении книги — дни. За два с половиной часа, как у фокусника из горсти земли, должен вырасти, расцвесть и завянуть цветок, совершить свой жизненный круг» (А. Н. Толстой).
Пьесу смотрит многотысячный и в своем большинстве демократический зритель. Он ищет в произведении драматурга прогрессивной идеи, и для того, чтобы она в пьесе с необходимой силой прозвучала, идеалы драматурга «должны быть определенны и ясны, чтобы в зрителях не оставалось сомнения, куда им обратить свои симпатии или антипатии» (Островский). Но ясностью должны обладать не только идеалы драматурга, а и вся структура его драматургического произведения: «Для зрителя не должно быть случайностей и путаницы». Пьеса должна быть построена так, чтобы «зритель был взят... чтобы полторы тысячи‘человек, сидящих в креслах зрительного зала, через несколько минут превратились бы в плотно спаянный коллектив...» (А. Н. Толстой).
Театральное исполнение является суровым испытанием для любого драматического текста. «Пьеса недурна, — говорил Гёте Эккерману, — но на подмостках она должна будет выглядеть совершенно иначе». Существует особая разновидность «драм для чтения», которые самими создателями не предназначались для театральной интерпретации. Тургенев, например, считал, что его «пьесы... неудовлетворительные на сцене, могут представлять некоторый интерес в чтении». Правда, в игре Мартынова, Давыдова и в исполнении артистического ансамбля Художественного театра пьесы Тургенева пользовались немалым успехом. Еще более стоическим как драматург был Байрон, который не предназначал для театра ни «Марино Фальери», ни «Сарданапала», ни «Двух Фоекари», чувствуя к сцене величайшее презрение. Не мог порою сдержать широкого полета своего воображения и Гёте, одна из драм которого переступала допустимые для театральной сцены пределы: его «Фауст» так и остался пьесой для чтения, ибо Гёте не смог, да и не пожелал заключить огромное содержание этой драмы в тесные границы театральной пьесы. Наоборот, такие «кровные» и беспримесные драматурги, как Шекспир, Мольер, Островский, никогда не упускали из виду сцену, великолепно чувствуя ее особые требования и законы. Впрочем, и профессиональный драматург может на известной стадии работы над пьесой забыть на время об условиях театра и для сохранения поэтической свободы отбросить всякую мысль о театральном исполнении.