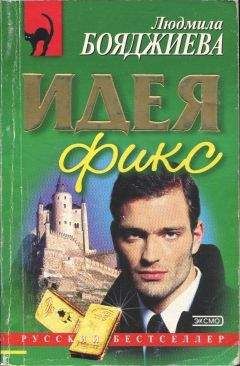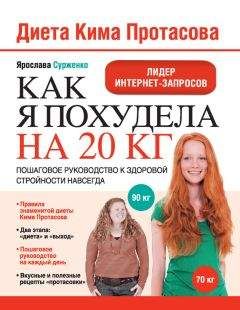Валерий Зеленский - Здравствуй, Душа!
В трактовке А. Ф. Лосевым понятий «лик» и «личность» превалируют категории исихастской мистики света: духовное восхождение просветляет лицо, превращает в лик, онтологическая сущность человека на высшей ступени открывается энергетически как свет.
Миф и лик
Другой источник учения о лике и мифе А.Ф. Лосева — персоналистически переосмысленное платоновско-пифагорейское учение о тетрактиде. А.Ф. Лосев утверждает тезис о различной ноуменальной выразительности явления, существовании его дискретных градаций. В применении к антропологии это означает иерархичность явления абсолютного в личности, что задает динамическую напряженность.
П. А. Флоренский
П.А. Флоренский, чье учение о лике как мифе личности, об иконичности личности в символической трактовке мифа продолжает А.Ф. Лосев, выделяет три уровня явления абсолютного в эмпирической личности: лик, лицо и личину.
Понятие лика выражает онтологическую проявленность (соответствует Самости у Юнга); лицо — индивидуализированное эмпирическое (Эго у Юнга); личина (персона или маска у Юнга) — полная противоположность лику, блокирующая явление абсолютного. В отличие от П. А. Флоренского, А. Ф. Лосев строго не разграничивает понятия «лик» и «лицо»: тело в определенном смысле и есть сама душа, ее живой лик (Там же, с. 135).
А. Ф. Лосев вводит категорию «лик», раскрывая основную позитивную характеристику мифа: «Миф есть личностная форма» (Лосев, 1990, с. 479). Лик — выражение личности, ее самостного образа, ее «образ, картина, смысловое явление… а не ее субстанция.…Миф не есть сама личность, но — лик ее» (Там же, с. 484).
Лосев и миф
Трактовка мифа Лосева нетрадиционна, противопоставлена «узкому» пониманию мифа как архаического повествования, выражающего предлогическую форму сознания. Лосев рассматривает миф «с точки зрения самого мифического сознания», для которого миф — наивысшая по конкретности и максимальной напряженности реальность. Миф, по А. Ф. Лосеву, — всепроникающая стихия, сущая всюду: в человеке и вокруг него, прирожденный человеку и социуму способ видения и толкования себя и мира. Мифология — особая форма энергийного воплощения сущности, универсальное качество культуры, объективно существующий срез каждого социально-исторического типа мышления. Миф, по Лосеву, — диалектически необходимая категория сознания и бытия вообще.
При рассматрении социокультурно-исторического плана личности А. Ф. Лосев дает собственную интерпретацию решения проблемы сущности и энергии в исихазме. Выражение сущности, по А.Ф. Лосеву, иерархийно: сущность явлена в эйдосе (энергия), эйдос явлен в мифе, миф — в символе, символ — в личности, личность явлена в энергии сущности (Лосев, 1993, с. 877–879). А. Ф. Лосев подчеркивает, что «…социальное бытие конкретнее не только логической, но и выразительной, символической и мифологической стихии», что «…наиболее конкретна и реальна личность, а также среда, где личность живет и действует, — общество … личность есть максимально конкретное, максимально реальное, очевиднейшее и выразительнейшее» (Лосев, 1999, с. 463).
В целом, введение понятий «лик» и «личность» ставит в символической и персоналистической трактовке мифа А.Ф. Лосевым акцент на социокультурно-историческом аспекте, расширяет горизонт трактовки категорий мифа и мифического: личность, создавая себе среду, накладывает на вещи, входящие в круг ее деятельности, свой отпечаток — личностность и вместе с тем — мифичность.
Душа в аналитической и архетипической психологии
Хотя предлагаемая работа написана в русле традиций глубинных психологов, автор глубоко убежден, что определенные традиции можно игнорировать, если строго следовать поставленной задаче. Эти границы включают разделение между академической наукой и глубинной психологией, которое все явственней ощущается как искусственное. Жизнь души и воображения, делающего ее живой, не может ограничиваться факультетами психологии или психиатрии. Она требует мультидисциплинарного подхода. Перефразируя известное высказывание о войне: душа слишком важное дело, чтобы отдавать его только в руки богословов, поэтов или психиатров. Что говорить о психологии, которая предала свой собственный предмет во имя научного академизма еще в XIX веке? Душа гуляет в своей каждодневности где хочет, потому что речь каждый раз идет о рождающейся личности, о новом человеке, и потому душа и есть та самая вещь, которая призывает человека решать свою ценностную задачу в каждый момент времени, каждый день, во всей его работе, на протяжении всей жизни.
Душа — это слово, которое снова в последние годы вошло в отечественный психологический словарь, и во многом это стало возможно благодаря работам Карла Юнга и Джеймса Хиллмана.
Но, что же означает слово «душа» на психологическом языке? Ведь это, ко всему прочему, еще и термин религиозного, поэтического лексикона. Слово «душа» несет для нас множество ассоциаций, от самых сентиментальных до самых сокровенных, и остается пугающе трудным в объяснительном плане, поскольку не поддается точному определению.
Невозможно сказать точно, что такое душа. Любое определение — всегда занятие интеллектуальное, а душа предпочитает воображать. Интуитивно мы знаем, что душа имеет дело с подлинностью и глубиной (Гераклит), скажем, в тех случаях, когда мы утверждаем, что у определенной музыки «есть душа» или какой-то замечательный человек «задушевен». Знаем, что можно «отвести душу» (только не всегда знаем куда или с кем). Пристально вглядываясь в образ душевности, мы видим, что он привязан к жизни во всех ее подробностях, будь то «хорошая» еда, «настоящий» друг, «глубоко интересный» разговор, переживания, надолго остающиеся в памяти и затрагивающие сердце. Душа открывается в прикосновении, любви, теплом общении, вежливом отношении, заботе со стороны семьи, в физической близости…
Архетипические психологи предпочитают работать с душевными проявлениями, нежели обсуждать, чем же душа является. Религиозные определения души могут только «сбить» с психологического пути. В работах Хиллмана можно встретить хвалу поэтам и античным авторам за их изысканное восприятие и понимание души, однако для нас, психологов, это мало что проясняет. Возможно, поэтому все тот же Хиллман говорит, что «душа есть нарочито неоднозначное понятие». И хотя каждый из нас чувствует верность вышесказанного, все равно остается нечто не удовлетворяющее нас. Подчас, понятно, что должна делать и как поступает душа, где она открывается самому себе и другим. Но что же она такое? Каким образом человек отличает душу от других откровений?
Что же означает слово «душа» для аналитических или архетипических психологов? Я намеренно оставляю без внимания теологические рассуждения по поводу души, поскольку это совершенно другой аспект. Но при этом хочу отметить, что Хиллман не рассматривает религиозную душу ни в качестве равнозначной, ни полностью отличной от психологической души. Это ясно из его постоянных ссылок на Блаженного Августина не только с целью отделить психологическую душу от теологической, но и с задачей обретения религиозных инсайтов, могущих содействовать и способствовать прояснению своих собственных идей, касающихся души.
Во время моей учебы на психологическом факультете в университете монопольным представлением, насаждавшимся повсеместно, был примат материального над духовным, иначе выражаясь, материнского или женского над мужским. Для души же места вообще не находилось — господствовала редукция, сведение психического к сенсорным ощущениям, эмоциям, к физическим «фактам». Это страшно угнетало, ибо меня влекло в психологии как раз изучение души, на которую я наткнулся — среди прочего — в поэзии символистов Серебряного века, которой тогда «страшно» увлекался.
Летом я жил в коктебельской среде тогдашних почитателей Волошина, в которой, помимо «певца Киммерии», постоянно мелькали имена Цветаевой, Мандельштама, Гумилева, чьи стихи пестрили этим словом — «душа». Гумилевское «Кто знает мрак души моей?..» — стало образцом для стихотворного подражания и первым посылом к собственному сочинительству еще в школьные годы. Этот же «душевный» порыв я принес и в тогдашнюю психологию, которую старательно изучал, поступив на факультет психологии в Ленинграде в 1969 году. К моему огорчению, «душой» на факультете не занимались, а занимались бог знает чем — рефлексами, восприятием, изучением поведения животных, эмоциями, шириной стрелки на приборах-указателях и т. д. Это было начало становления независимой от философии, но все еще остававшейся под ее идеологическим контролем марксистколенинской психологии, каковой она тогда себя гордо именовала.
Для себя я твердо знал, что душа существует, что у нее есть своя — душевная — логика, не вписывающаяся ни в какие рефлекторные цепи, ассоциативные ряды, но, как сформулировать свои мысли, абсолютно не знал. После окончания факультета я приступил к написанию диссертации о помехоустойчивости человека-оператора и пытался в ней проследить работу специалиста-акустика на семантическом уровне, где возникают проблески душевной логики, но работа так и осталась незавершенной по независящим от психологии причинам. В логике диссертационных рассуждений мелькали «убеждения» революционеров, их стойкость в отстаивании идеалов, протопоп Аввакум и внешне «помехоустойчивый» Павка Корчагин, «спаливший» себя изнутри. Требовался инструмент для рассуждений или метод. Постепенно я пришел к открытию аналитической психологии, хотя в профессиональном отношении это произошло слишком поздно — меня выперли из университета практически с волчьим билетом. Заниматься профессионально психологией как наукой я уже не имел никакой возможности. Тогда я ушел на литературную работу… Но размышления о том, на каких принципах строится труд души, остались.