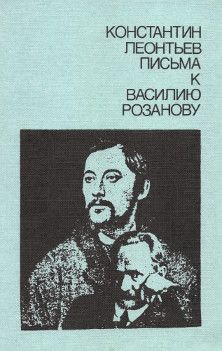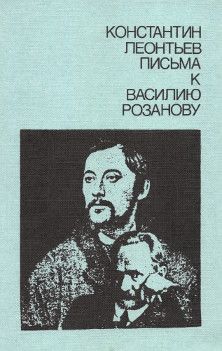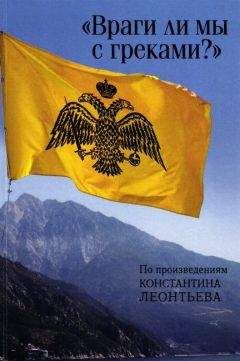Константин ЛеонтьевЛеонтьев - Избранные письма. 1854-1891
Господи! Зачем вы все так осторожны? Уж не «практичность» ли какая-нибудь? Смотрите, пересолить недолго. Есть всему время; иной раз и эта кажущаяся «практичность» бывает в высшей степени непрактична.
Это отчасти и к Вам, мой добрый друг, Анатолий Александрович, относится. Я помню и у Вас что-то: «Ангелы кротко» и т. д.
Изгнать, изгнать Соловьева из пределов Империи нужно, а не… И т. д.
Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С 122–125.
248. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ. 31 октября 1891 г., Сергиев Посад
(…) Вообще, эта полемика и радует меня, и волнует. Я все боюсь, чтобы Соловьев не вывернулся, но, видно, Грингмут и Говоруха не пожалели трудов, не поленились запастись справками. А я? Я могу только молиться за них, благословлять их, восхищаться их возражениями, и только!.. Ветеран, инвалид бессильно, но радостно машущий костылем своим при чтении о победах своих соотчичей…
Впрочем, хочу чужими руками жар загребать… Попытаюсь хоть советы давать. Надо бы, по напечатании реферата (хотя бы и в искаженном виде), чтобы духовенство наше, наконец, возвысило свой голос. Можно бы предложить Иванцову-Платонову или Сергиевскому[929]… А лучше всего было бы, если бы г. Петровский обратился с просьбой к великому князю Сергею Александровичу[930] уговорить митрополита Иоанникия[931], чтобы он сказал сам проповедь противу этого смешения христианства с демократическим прогрессом или обнародовал какое-нибудь краткое послание к своей пастве. Скажут: много чести? Я не согласен. Преосвященный Никанор удостоил же внимания своего Л. Н. Толстого, а что такое проповедь этого самодура и юрода сравнительно с логическою и связною проповедью сатаны Соловьева!
Не надо переходить в такой практичности через край (т. е. не прославлять посредством «анафемы»). Из двух зол — еще несколько больше прославить и оставить паству в недоумении, — конечно, первое лучше. Это раз. А сверх того, хотя я лично еще не видал ректора здешней Академии от. Антония[932] (он у меня был, но застал спящим после обеда, а теперь сам болен, но мы обменялись книгами и т. д….), но непременно напишу ему письмо, в котором буду умолять возразить Соловьеву. Опасаюсь только, что он сам (по некоторым признакам) либерал-демократ, но, однако… в какой мере? Не в такой же, в какой стал Соловьев. (…)
Я предлагаю такого рода план: сперва добиться, чтобы духовенство возвысило голос — тогда для недоумевающих все будет ясно и авторитетно. Потом, когда этого добьемся, употребить все усилия, чтобы Вл. Соловьева выслали (навсегда или до публичного покаяния) за границу. Государство православное не имеет права все переносить молча! И, наконец, по высылке, сделать секретное цензурное распоряжение такого рода: его книг не выпускать, но если кто вздумает писать о Вл. Соловьеве, то можно, но подвергать, по исключению, предварительном цензуре даже и назначенное для бесцензурных изданий: опровержения, нападки — хорошо, защита — нельзя.
Л. А. Тихомиров очень этого (высылки) боится, полагая, что это создаст ему окончательный «ореол». Но, во-первых, если и так, то что же делать? Видно, этих «ореолов» не избежишь при серьезной борьбе. А во-вторых, при таких суждениях забывается то легкомыслие и даже та подлость, которые свойственны всякой публике, а нашей пустоголовой и подавно. Забывают, дряни, всякого — только замолчи или удались. Чернышевского на моих глазах при жизни как раз забыли, Герцена почти вдруг бросили и т. д.
У нас этот «ореол мученичества за идею» — соломенный: ярко вспыхнет и потухнет скоро. Ну, да и страх что-нибудь да значит для будущих писателен: не всякому хочется в изгнание.
И еще соображение касательно самого Соловьева. Что он будет делать за границей? Положим, он может писать по-французски… Но что? С настоящими верующими католиками он тоже не согласен; они гораздо ближе к нам, чем к нему. Третьего года А. П. Саломон[933], один из самых умных и тонко образованных русских людей, каких только я знал, человек увлекающийся и сложный (в одно и то же время приверженец от. Амвросия и горячий почитатель Соловьева), говорил мне, что иезуиты Соловьевым очень недовольны и будто говорили ему (в Париже):
— Мы вашу книгу «La Russie et l’Eglise Universelle»[934]не одобряем (несмотря на благословение Папы, данное, впрочем, автору, а не книге… Вежливость!) и будем ее влиянию всячески препятствовать. Мы не находим полезными какие-то массовые национальные движения для соединения Церквей; мы занимаемся только личным уловлением душ. (Т. е. тем же, чем и у нас верующие рады заниматься.)
Что же ему будет делать между католиками и атеистами-демократами? Там все резче и яснее, чем у нас по этой части. Придется, чтобы влиять и иметь успех, сделать что-нибудь одно из двух, «сесть на один из стульев» (между которыми он сидит теперь, по выражению Грингмута): или отречься разом и от демократии, и от православия уже явно, т. е. перейти окончательно и лично в чистый и прямой католицизм, тогда у нас от него отступятся и все наши нигилисты, и все недоумевающие полуправославные; или же стать открыто на сторону дальнейшей революции и объявить, что Папство и православие — одинаково вздор! Куда же тогда улетит его прежняя слава как мистика? Или, наконец, продолжать висеть в унынии, бессильном раздражении и без практического веса — между небом и землей…
Изгнанием можно этого достичь, снисхождением в России — никогда! (…)
Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 126–129.
249. Л. И. РАЕВСКОЙ 1 ноября 1891 г., Сергиев Посад
Дорогая Людмила Осиповна, сегодня получил Ваше письмо и сейчас же отвечаю. Нумера «Московских ведомостей в которых было о батюшке[935], достану и вышлю. Сам теперь серьезного об нем писать не собирался, да это и обдумать надо; а посылаю в «Гражданин», где об нем до сих пор не было ни слова, два-три письма, которые наполовину будут состоять из вырезок из тех же «Московских ведомостей», собственного будет мало. Иначе сразу я не умею. Богу угодно будет, он научит, как и когда взяться за серьезный труд. Что касается до рамки, то простите, здесь некому поручить, сам не выхожу. Егор[936] мой довольно глуп, а из Москвы выписывать сюда да посылать Вам, это очень трудно, не берусь, да и не нужно, лучше я при первой возможности пришлю Вам рубля 2, Вы столяру в Козельске и закажете. На что щегольскую или модную? Была бы чистая и прочная.
Думал об Вас все это время достаточно и жалел Вас и намеревался писать Вам, да все откладывал, потому что мне все еще в Оптиной казалось, что Вам уже ни до кого и ни до чего, кроме батюшки и матери Евфросинии, дела нет.
«Угостить» Вас издали нельзя, а сам, я думал, Вас мало уже интересую. Такое у Вас лицо всегда бывало.
Да, я согласен с Вами, и я понемножку таким становлюсь, вот уже и писать нет охоты, а пишешь кой-что по нужде (так и батюшка на прощанье благословил).
Вот уж и без Вари жизнь впервые начинаю понимать, то есть — не скорблю.
И т. д., и т. д. «монашествую» в безмолвии моем поневоле (без от. Амвросия) самочинном, как умею и могу. Стал больше поститься, больше молиться, гораздо меньше курить и т. д.
Молю Бога и совсем табак бросить.
И мебель, и другие вещи кудиновские мне стали не нужны…
Кстати, что же Вы взяли себе из мебели? Впрочем, не принуждайте себя на это отвечать. Это пустяки. Приедет Варя в Мазилово[937], побывает потом у меня и все скажет.
Больше нечего писать. Простите, Хриета ради, право не хочется.
Я на Варю очень сердит за ее непомерно долгое молчание.
Спаси Вас Господь и помози Вам на Вашем трудном пути.
Ваш грешник-монах Кл(имен)т.[938]Не адресуйте писем в Москву, на Сергиев Посад. Это только путает, а просто — на Сергиев Посад.
Публикуется по автографу (ГЛМ).
Из воспоминаний А. А. Александрова. КОНЧИНА КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА
Умер Константин Николаевич от воспаления легких от той самой болезни, от которой в разговоре со мной выражал желание умереть, предпочитая смерть от нее смерти от одной из старых затяжных своих болезней (сужение мочевого канала), мучительность смерти от которой он, как врач, хорошо знал.
Переехав из Оптиной Пустыни в Троицкую Лавру, он, имея в виду не торопясь подыскать удобную квартиру в Посаде, остановился пока в Новой Лаврской гостинице. Так как подходящей квартиры долго не находилось, то он решил перезимовать в гостинице и перешел вниз, в «графский» номер (который назывался так потому, что в нем долго жил граф М. В. Толстой, писатель по церковным вопросам). Номер этот находился в сторонке, налево от лестницы, когда входишь в гостиницу, и, перегороженный на несколько комнат, представлял собой нечто вроде отдельной квартиры. Номер был очень теплый: под ним, или почти под ним, как говорили тогда, находился котел парового отопления.