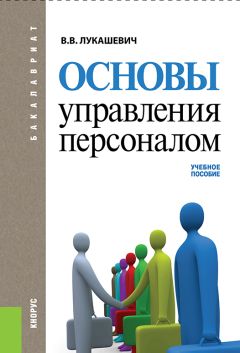Эрих Мария Ремарк - Обетованная земля
— Что, Джесси Штайн приехала в Нью-Йорк на «роллс-ройсе»? — съехидничал я.
— Нет, Людвиг. Она прибыла последним рейсом «Королевы Мэри» перед началом войны. Когда она сошла с корабля, ее виза была действительна только два дня. Но ее сразу же продлили еще на шесть месяцев. И с тех пор регулярно продлевают каждые полгода.
Внезапно у меня перехватило дыхание. Я уставился на Хирша.
— Роберт, такое и в самом деле бывает? — спросил я. — Значит, визу здесь могут продлить? Даже туристическую?
— Именно туристическую. Другие не нужно продлевать. Это уже настоящие въездные визы по так называемым номерам квот — первый шаг к натурализации через пять лет. Все квоты уже расписаны на десять или двадцать лет вперед! С такой визой разрешается даже работать, а с туристической нет. Твоя виза на сколько?
— На восемь недель. Ты действительно думаешь, что ее могут продлить?
— А почему нет? Левин и Уотсон — довольно бойкие ребята.
Я откинулся на спинку стула. Внезапно почувствовал глубокое облегчение — впервые за много лет. Хирш посмотрел на меня. Он рассмеялся.
— Что же, сегодня вечером мы отпразднуем начало добропорядочной буржуазной стадии твоей эмиграции, — заявил он. — Пойдем где-нибудь отужинаем. Время via dolorosa ушло навсегда, Людвиг.
— Только до завтра, — возразил я. — С утра я отправлюсь на поиски работы и сразу же снова нарушу закон. Как тебе нью-йоркские тюрьмы?
— Вполне демократичные. Кое-где даже радио есть. Если у вас не будет, я тебе дам.
— А лагеря для интернированных в Америке тоже есть?
— Да. С той разницей, что в них сажают по подозрению в нацизме.
— Вот так поворот! — Я поднялся со стула. — Куда пойдем есть? В американскую аптеку? Я там сегодня пообедал. Мне очень понравилось. Там были презервативы и сорок два сорта мороженого.
Хирш расхохотался.
— Это был драгстор, магазин-закусочная. Нет, сегодня мы пойдем еще куда-нибудь.
Он запер двери своей лавочки.
— Это твой собственный магазин? — спросил я.
Он покачал головой.
— Я здесь всего лишь маленький, бесправный продавец. — В его голосе вдруг послышалась горечь. — Самый заурядный продавец, работаю с утра до вечера. Кто бы мог подумать!
Я ничего не ответил. Я был бы счастлив, если бы мне разрешили поработать продавцом. Мы вышли на улицу. Между домами повисло бледно-красное, блеклое полотно заката — какое-то промерзшее, нездешнее. С ясного неба доносилось гудение двух самолетов. Никто не беспокоился об этом, не кидался спасаться в подъезды домов, не падал ничком на землю. По обеим сторонам улицы вспыхнули ряды фонарей. Неоновые огни реклам бегали вверх-вниз по фасадам домов, словно разноцветные обезьяны. В Европе в этот час было бы темно, как в угольной шахте.
— Здесь и вправду нет войны, — сказал я.
— Нет, — откликнулся Хирш. — Здесь нет войны. Ни руин, ни опасностей, ни бомбежек — ты ведь это имеешь в виду?
Он рассмеялся.
— Жизнь, лишенная опасностей, зато полная отчаяния из-за этого беспомощного ожидания.
Я внимательно посмотрел на него. Его лицо снова было замкнутым, непроницаемым.
— Думаю, такую жизнь я мог бы терпеть довольно долго, — сказал я.
Мы повернули на новую улицу, пронизанную красными, желтыми и зелеными огоньками перемигивающихся светофоров.
— Мы идем в рыбный ресторан, — сказал Хирш. — Ты помнишь, когда мы с тобой в последний раз вместе ели рыбу во Франции?
Я рассмеялся:
— Очень хорошо помню. Это было в Марселе в ресторанчике Бассо в старом порту. Я еще ел рыбную похлебку с шафраном, а ты — крабовый салат. Ты тогда угощал. Это была наша последняя совместная трапеза. Правда, спокойно закончить ее нам не удалось: в ресторане заметили полицейских — и пришлось срочно сматываться.
Хирш кивнул:
— Сегодня ты ее закончишь, Людвиг. Теперь это не вопрос жизни и смерти.
— Слава богу!
Мы остановились перед окнами ярко освещенного ресторана. Две громадные витрины были заполнены рыбой и прочей морской живностью, покоившейся на ложе из мелко порубленного льда. Ряды рыбы казались длинными серебряными полосами; крабы отливали розовым — они были уже сваренные; зато омары, похожие на закованных в металл средневековых рыцарей, были еще живы. Поначалу этого не было видно, но затем ты замечал, как двигаются их усы и выпуклые, словно пуговки, глаза. Они смотрели на тебя, они двигались и смотрели на тебя. Их большие клешни едва шевелились. Внутрь клешней были вставлены деревянные колышки, чтобы омары не покалечили друг друга.
— Что за жизнь! — воскликнул я. — Лежат себе брюхом на льду, в наручниках, постоять за себя не могут. Прямо как эмигранты без паспорта!
— Я тебе закажу одного. Самого крупного.
Я запротестовал:
— Только не сегодня, Роберт! Не хочу первый же день начинать с убийства. Пусть они живут себе, эти несчастные омары. Даже такое жалкое существование им, наверное, кажется жизнью, за которую стоит сражаться. Я лучше закажу крабов. Они уже вареные. А ты что возьмешь?
— Омара! Хочу избавить его от страданий!
— Два мировоззрения, — заметил я. — Твое практичнее. Мое более лицемерное.
— Это скоро изменится.
Мы вошли в ресторан. Нас окатило волной теплого воздуха. В зале одуряюще пахло рыбой. Почти все столики были заняты. Вокруг нас сновали официанты с громадными блюдами, из которых торчали клешни гигантских крабов, точно кости после пиршества каннибалов. За одним из столиков сидели двое полицейских; облокотившись на стол, они впивались в клешни крабов, как в губные гармошки.
Я непроизвольно замер и принялся озираться в поисках выхода. Роберт Хирш подтолкнул меня вперед.
— Удирать тебе незачем, Людвиг! — засмеялся он. — Правда, легальная жизнь тоже требует мужества. Порою большего, чем бегство.
Сидя в красном плюшевом уголке, который в гостинице «Рауш» назывался салоном, я штудировал свою английскую грамматику. Было уже поздно, но идти спать мне все еще не хотелось. Мойков шумел по соседству в приемной. Спустя некоторое время я услышал, как к дверям кто-то подходит, кажется немного прихрамывая. Это была странная хромота: звук шагов словно спотыкался в синкопе и напоминал мне о ком-то, кого я знал еще в Европе. В полумраке фигура незнакомца была едва различима.
— Лахман! — окликнул я наугад.
Незнакомец остановился.
— Лахман! — повторил я, включая верхний свет.
Из трехрожковой люстры в стиле модерн уныло заструился тусклый желтый свет.
Прищурив глаза, незнакомец уставился на меня.
— Господи! Людвиг! — воскликнул он. — Ты здесь давно?
— Три дня. Я сразу узнал тебя по походке.
— По моему проклятому шагу в ритме амфибрахия?
— По твоей вальсирующей походке, Курт.
— Как же ты сюда попал? По визе от Рузвельта? Ты значишься в списках великих умов Европы, которых необходимо спасти?
Я покачал головой:
— Никто из нас там не значится. Не настолько мы, бедолаги, знамениты.
— Уж я-то точно нет, — вздохнул Лахман.
В комнату вошел Мойков.
— Так вы знакомы?
— Да, — подтвердил я. — Мы знакомы. Уже давно. По многим тюрьмам.
Мойков снова выключил люстру и потянулся за бутылкой.
— Это надо отметить, — сказал он. — Праздник есть праздник. Водка за счет заведения. Мы здесь люди очень гостеприимные.
— Я не пью, — возразил Лахман.
— Ну и правильно! — Мойков наполнил стакан только мне.
— Одно из преимуществ эмигрантской жизни: прощаться приходится часто, зато потом каждый раз можно праздновать встречу, — объяснил он. — Это создает иллюзию долгой жизни.
Ни Лахман, ни я не отвечали. Мойков был из другого поколения — из тех, кто в 1917 году бежал из России. То, что нас еще обжигало, для него давно превратилось в полузабытую легенду.
— За ваше здоровье, Мойков! — сказал я наконец. — Почему только мы не родились йогами? Или в Швейцарии?
Лахман сухо засмеялся:
— Да если бы хоть не евреями в Германии, я бы и то был доволен!
— Вы авангард эры всемирного гражданства, — невозмутимо парировал Мойков. — По крайней мере, ведите себя, как подобает первопроходцам. Придет время, и вам будут ставить памятники.
Он направился к стойке, чтобы выдать ключ постояльцу.
— Вот остряк, — сказал вслед ему Лахман. — Ты что-нибудь для него делаешь?
— Это как?
— Водка, героин, тотализатор. Что-нибудь в этом роде.
— Он этим занимается?
— Говорят, что да.
— Ты сюда за этим пришел? — спросил я.
— Нет. Просто я здесь тоже раньше жил. Как почти каждый, кто сюда приезжает.
Лахман посмотрел на меня с заговорщическим видом и уселся рядом со мной.
— Я по уши втрескался в одну женщину, которая здесь поселилась, — зашептал он. — Представь себе, пуэрториканка сорока пяти лет, одна нога не ходит — под машину попала. Сожительствует с сутенером из Мексики. За пять долларов этот сутенер сам готов постелить нам постель. У меня и побольше найдется! Но она не хочет. Набожная очень. Просто беда! Она верна ему. Он ее силой заставляет, а она все равно не хочет. Она думает, Господь Бог смотрит на нее из облака. И по ночам тоже. Я ей говорю: у Господа близорукость, причем давно уже. Ничто не помогает. Но деньги она берет. И обещает! И все отдает своему сутенеру. Обещанного не выполняет, только смеется. И снова обещает. Я уже с ума сошел. Беда с ней просто!