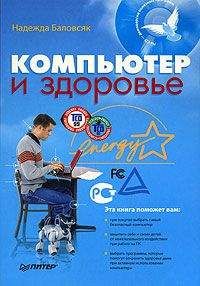Герхард Менцель - Годы в Вольфенбюттеле. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера
Это роман воспитания, роман становления, подобно «Годам учения Вильгельма Мейстера» Гёте, которого он хочет превзойти и которому многим обязан. Противопоставляя себя Гёте, он учится у него. В плодотворном споре с классиком рождается идеал воспитания: он включает в себя гётевский идеал и в то же время превосходит его, потому что он обогащен политическим моментом. Цель воспитательного процесса у обоих — разносторонне развитая личность (Жан-Поль называет это всесторонностью), но, в то время как у Гёте утопия классовой гармонии порождает аполитичного образованного бюргера, демократизм Жан-Поля приводит к идеалу политически развитого человека. В конце романа у него появляется не энергичный, умеющий приспосабливаться бюргер, а государственный деятель, стремящийся изменить существующие условия. Когда идеальная героиня (художественно, к сожалению, маловыразительная) принцесса Идоина в конце романа говорит герою: «Поверьте, серьезная деятельность в конечном счете всегда примиряет с жизнью», то это звучит очень по-гётевски, но ведь это одобрение Альбано, который решил вступить во французскую армию, чтобы защищать революцию.
К сожалению, возвышенный идеал жан-полевского «высокого человека» разработан на искусственном сюжете. Разделение труда деформирует личность, этому противостоит стремление эпохи сохранить человечность, всесторонне развивая человека. Но деформация его доходит до крайних пределов только в результате капиталистического развития, поэтому показать ее можно лучше всего на примере бюргерства, что и делает Гёте. Жан-Поль предполагал показать бюргерскую параллель к истории воспитания Альбано, однако перенес ее в следующий роман, в «Озорные лета», а проблему одностороннего развития изобразил на примере аристократа, которому благодаря его привилегиям меньше всего угрожает деформация личности как результат разделения труда. Это позволяет Жан-Полю выдвинуть на передний план политически дееспособных героев, но ему приходится перенести проблему в иную среду: односторонность, которая ведет к поражению всех персонажей (включая идеальные образы Альбано и Идоины), связана не с основами их существования, а с их идеологией. В то время как Гёте запечатлел основную проблему будущего века, Жан-Поль остается в пределах сугубо злободневной социальной и идеологической критики.
Когда в 1803 году вышел третий том «Титана», он уже почти устарел. Дни деспотов, правящих в мелких княжествах, сочтены, дискуссии вокруг классицизма и романтизма идут на убыль. Династическая интрига, положенная Жан-Полем в основу очень запутанной фабулы, сходным образом разыгрывалась лет семьдесят пять тому назад в Ансбах-Байройте; животрепещущей ее уже не назовешь. А буржуазии, которая из Франции определит историю всей Европы на ближайшие годы, у Жан-Поля нет даже в намеке.
Однако неуспех романа объясняется не только этим. Долгое время работы над ним привело к многочисленным внутренним противоречиям разного рода, которые художественно не преодолены, а лишь прикрыты. В первом томе еще многое от излишеств и гротесковости «Геспера», во втором томе действие топчется на месте, и к подлинно образцовому язык приближается лишь в двух последних томах. Но все это куда менее важно, чем то, что развитие фабулы и идеал воспитания не соответствует друг другу, в непонятной герою и читателю игре интриг Альбано лишь мячик. И когда наконец он — герой, которому так и не дано что-либо свершить, — в итоге пройденного пути воспитания решает отправиться во Францию, это намерение остается неосуществленным. Ибо тут ему (по воле вымученной и украшенной таинственной машинерией фабулы) открывается, что он князь обоих враждующих государствишек. Автор и герой еще ни слова не сказали по этому поводу, а Альбано, который только что был готов пойти войной на феодальную страну, вступает (после поспешной помолвки со сторонницей реформ принцессой Идоиной) на престол в феодальной же стране. Смысл хэппи-энда, таким образом, тот же, что в «Геспере»: какой восторг должна у властителя вызывать революция, чтобы он захотел провести ее сверху! И если такой конец не свидетельствует ни о реализме, ни о республиканских взглядах автора, он все же говорит о том, что отношение Жан-Поля к революции во Франции не изменилось. И спустя десять лет после времени, на которое приходятся события в финале романа, автору вершиной развития его самого положительного героя все еще представляется решение в пользу революции — в ее жирондистской фазе. Ибо роман кончается еще до захвата власти якобинцами. А что Жан-Поль думает о них, он недвусмысленно сказал в опубликованной в 1801 году статье «О Шарлотте Корде»: жирондистов он называет «последними республиканцами», а «кровожадную партию Горы» считает не защитницей, а погубительницей свободы, «смерчем века, ледяным ураганом терроризма», который внушает ему отвращение.
По сравнению с «Незримой ложей» и «Геспером» третья попытка создать «героический» роман (собственно говоря, единственный) — большой художественный прогресс. Автор лучше справляется с языком. Из всех персонажей сатиры пишет только Шоппе. (Остальные сатиры, которые автор раньше втискивал в книгу, перенесены в «Комическое приложение».) Эмоциональные восторги и описания природы обузданы. Но подлинно великие достижения — характеры.
Тут и первая любовь Альбано — Лиана, страдающая от деспотизма своего отца, министра, и гибнущая от чрезмерной чувствительности и болезненной тяги к смерти. Тут и Линда, вторая возлюбленная Альбано, пугающе точная копия Шарлотты фон Кальб, которая страдает ее болезнью глаз и говорит цитатами из ее писем. Любовь ее настолько эгоистична, что она стремится удержать юношу от его планов участия в походе. Она в такой степени прямолинейно эмансипированна, что отвергает брак и готова отдаться, не узаконивая отношений, что и приводит ее к гибели. Она плохо видит в темноте, и ею ночью овладевает не Альбано, бог солнца (Ти́тан, с ударением на первом слоге), а его друг и враг, один из тита́нов книги (с ударением на втором слоге, один из богоборцев, каждый из которых, по словам Жан-Поля, попадет в свой ад), причем самый злой из них, Рокероль, — самый обворожительный образ в романе. По сравнению с ним Альбано кажется бледным; вот она — дилемма положительного героя, и поныне волнующая критические умы. Рокероль действует, Альбано же делать нечего, он лишь постоянно совершенствуется.
Брентано прав: Рокероль задуман как пугающее воплощение романтизма. Его пример показывает, в какие пропасти может ввергнуть чрезмерный эстетизм. Гений, каким он был задуман в первоначальном наброске романа, с хорошими и плохими чертами, раздвоился впоследствии на персонифицированное изображение Добра и Зла. В этом выразилось стремление Жан-Поля к объективизации и отчуждению собственной личности. И от этого Рокероль и Шоппе выигрывают не меньше, чем Альбано. Если солнечный юноша воплощает классическую программу гармонии, сокровенную мечту Жан-Поля, то Рокероль — воплощение опасностей, которые заложены в самом авторе и которые он побеждает, давая им полностью изжить себя в образах романа: разрушение чувства предвосхищающим его интеллектом, тщеславие самоизображения. Только тот, чья душа испытала подобные искушения, может знать это с такой точностью, как Жан-Поль. Именно в искусстве он предвосхищает свою жизнь, именно он в письмах к поклонницам всегда может с легкостью изобразить любое чувство, именно ему каждая личная встреча, подготовленная письмами, приносит разочарование, потому что уже до встречи все чувства пережиты. Жан-Полю, несмотря на то, сколь близок к нему этот образ, удалось показать его объективно, со всяческими психологическими и социальными мотивировками, он стал лучшим из того, что есть в романе, и это величайшее художественное достижение. В человеческом же плане это особенно привлекательно, потому что здесь преодолена опасность чистого искусства. Когда Альбано на античных развалинах, которые вызывают в других людях жажду художественного наслаждения, принимает решение действовать, это всего лишь словесная программа. Но когда эстетство Рокероля навлекает на него гибель, это доказательство средствами искусства.
Единственное подлинное чувство Рокероля — безответная любовь к Линде. И он уничтожает ее, надругавшись над любимой. Затем отвращение к собственной пустоте доводит его до самоубийства. Но и самоубийство он обращает в искусство. Его жизнь, его преступления, его смерть становятся содержанием трагедии, которую он сам сочиняет, ставит на сцене и играет. Он последовательно осуществляет эстетизацию своей жизни, публично стреляясь на сцене и доводя до абсурдного конца шиллеровскую идею эстетического воспитания в духе романтиков — к восторгу советника от искусства Фрайшдёрфера, которого не волнует покойник, но театральный эффект восхищает и подсказывает ему новые теории.