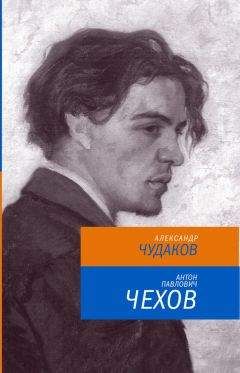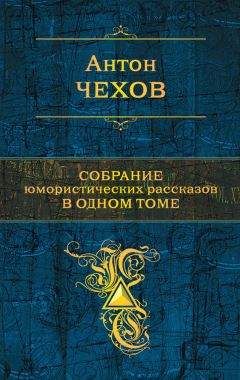Елена Гушанская - За честь культуры фехтовальщик
У Л. Трушкина (Театр-антреприза имени А. П. Чехова, 1992) Фирсом был гениальный Евгений Евстигнеев. Каким он был?.. Просто был. Грузный, крупный, очень старый, но совсем не дряхлый, на плечах то ли английский клетчатый плед из запасов покойного барина, то ли бабий деревенский платок. Его существование обналичивало прошлое, достойное, осмысления, прошлое, в котором и горячий жидкий сургуч, прописанный барином, приобретал значение великих тайн природы. Фирс овеществлял собой прожитую жизнь, хотя что он видел, кроме гардеробной барина да буфетной… Фирс Е. Евстигнеева шаркал, кряхтел, бурчал, бормотал (слышно было отчетливее монологов), ничего не делал: ни как старый слуга, ни как актер (так, во всяком случае, казалось) – и этим держал зал, организовывал действие. Присутствие Фирса все направляло в нужное русло, делало существование других персонажей осмысленным. Так присутствие бабушки, сидящей в своем кресле в дальней комнате, организует и направляет жизнь семьи… Так и Фирс держал и усадебный миропорядок, и зрительный зал, не давая ни тому, ни другому развалиться или расслабиться.
Столь же значимой фигурой должен был по замыслу Л. Додина стать и Фирс в исполнении Олега Борисова («Вишневый сад» МДТ, 1994). Но из-за болезни актера Фирса сыграл приглашенный из БДТ Евгений Лебедев. И здесь личность актера стала доминантой, однако в игре доминировала дряхлеющая и становящаяся все более вздорной реинкарнация профессора Серебрякова, чуть-чуть сдобренная ужимками кикиморы. Старческая брюзгливость персонажа у Лебедева пронизывала действие, пропитывала весь спектакль, подавляла зрителя, но не организовывала действия.
Спектакль получился какой-то невнятный. Кругленькая, уютная Раневская, которая дальше Сызрани явно не выезжала, мещаночка, прикладывавшаяся к плакунчику из ридикюльчика…
Раневские советского времени вообще были одеты тепло, по-дорожному предусмотрительно, в среднестатистические глухие платья второй половины XIX века, чуть ли ни с тюрнюрами. Декадентскую свободу покроя ввела, кажется, Алла Демидова, появившаяся у А. Эфроса в нарядах, стилизованных под арт-нуво.
У Э. Някрошюса Фирса играл Алексей Петренко.
Есть актеры, растворяющиеся в персонаже, а есть актеры, заполняющие собой все пространство роли и даже «вылезающие» из него, как тесто из квашни. А. Петренко принадлежит ко второму типу актеров: из него натура прет. Наверное, он может сыграть всё, что угодно, кроме кротости, тихости, мудрости и прозорливости. Как Лопахин этого спектакля, будучи из шустрых, умненьких, деятельных подрядчиков, оказывался в щекотливой ситуации, так и Фирс, привыкший распоряжаться в доме и лишенный этой возможности, чувствовал себя не в своей тарелке. В спектакле вообще господствовало ощущение неловкости всего происходящего, – ощущение, усугубленное звездным блеском актерского состава.
2
Л. Додин поставил почти всего А. П. Чехова – от «Пьесы без названия» до «Вишневого сада», кроме «Чайки» и водевилей. В этом есть своя закономерность. «Безотцовщина» («Пьеса без названия»), «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» – своего рода трилогия, объединенная единством коллизии: все они об утрате теплого мира, своего гнезда, родного угла, – каноническая трагедия конца XIX и надвигающегося XX века.
Нынешний «Вишневый сад» (2014) для Л. Додина – второе обращение к пьесе. Л. Додин, мне кажется, давно не ставил спектакля проще, понятнее и пронзительнее. В спектакле по классической пьесе возникает вольтова дуга с современностью. Театр озвучивает наше сиюминутное страдание, наши страхи точнее, чем это можно сделать с помощью современных авторов.
Что сегодня нам может дать «Вишневый сад», когда только на протяжении последней четверти века мы по несколько раз теряли свое прошлое, по несколько раз выдирали его с кровью, и оно снова прорастало диким мясом. Что нам сегодня до продажи имения в 1904 году, если мы знаем, что произойдет в 1917, в 1937, в 1940-е, в 1960-е и в 1990-е…
Л. Додин, вглядываясь в «Вишневый сад», рассматривает в нем настоящее. Этим, видимо, и обусловлено пространственное решение спектакля. Часть действия, действительно, будет проходить как бы внутри гаевского дома – в самом зрительном зале. Такой художественный прием должен дать зрителю почувствовать, что все свершающееся на наших глазах, здесь и сейчас, связано с его собственною жизнью, должен создать иллюзию телесной сопричастности. Метафора обескураживающе прямая, но такая сценическая концепция требует сложного пространственного решения.
В зрительный зал мы попадаем через старинные белые двери. В центре зала висит тяжелая люстра, обернутая холстиной, стоит бильярдный стол, перед сценой расставлены еще какие-то предметы старинной обстановки. Что там успеешь рассмотреть, пробираясь к своим местам в холстинковых чехлах…
Не знаю, добавляет ли такое пространственное решение сопричастности с происходящим, но из четырехсот двадцати зрителей зала на ул. Рубинштейна по крайней мере тремстам семидесяти не будет видно ничего из происходящего посреди партера. Часть спектакля для этих бедолаг пройдет в режиме радиотеатра. Впрочем, в зал перенесена, так сказать, мякина действия, а то, без чего спектакль невозможен, ключевые его сцены подняты на просцениум или передвинуты ближе к рампе: сцены Лопахина и Раневской, объяснение Лопахина и Вари. На занавес проецируются сцены из былой жизни, заснятые на узкую пленку (доисторическое «хоум-видео») и лопахинский бизнес-план.
Мало того, что подавляющей части зрителей не видно происходящего в партерной части сценической площадки. Главное – нарушается семиотика театрального пространства, разрушается природа театральной условности. Сцена и зал – два семиотически различных пространства: на сцене действие условное, а в зале – безусловное. Перенося действие в зал, режиссер обязан выстраивать интерактивный процесс, снимать границу сцены и зала, заставлять актеров взаимодействовать со зрителем, иначе перенесение сценической площадки в зал – пустая забава. У Л. Додина структура действия не меняется и перенесение остается сугубо пространственным решением. К вызовам такого рода, к работе в зале, в иной системе театральных координат додинские актеры не приучены, они не обладают соответствующим навыком, да и сам спектакль таких задач не ставит.
Л. Додин значительно сократил чеховский текст, выбросил довольно большое количество реплик, ужал линии отдельных персонажей (Аня и Петя, Шарлотта, Епиходов), совсем исчезли Симеонов-Пищик и подвыпивший прохожий. Но из вариантов пьесы режиссер ввел рассказ Фирса о том, как он чуть было не стал разбойником, ничего не прибавляющее к весьма банальному сценическому воплощению персонажа. Собственно говоря, пьеса освобождена от чеховской томительности, от атмосферы ожидания неизбежного. Ну, знаем мы уже, о чем идет речь, – кажется, родились с этим знанием…
Прошлое олицетворяет Раневская.
Черная шляпа подлинная, не бутафорская, настоящий фин-де-сикль – актриса носит ее так, словно родилась в ней. На нарядах Раневской нет акцента, их не замечаешь, что и есть истинный шик. По времени платья соответствуют шляпе, тогда же стали носить мерцающее черное, струящееся вокруг тела, – что являло другую, нежели в XIX веке концепцию женственности.
Когда в 1970-е годы И. Соловьева посвятила целый пассаж облику Книппер-Раневской, холеность была бытийной величиной, репрезентом качества жизни, в которой «простыни без швов и скатерти без складок». Холеность была синонимом культуры, аристократизма. А что было в самой Ольге Леонардовне Книппер, кроме холености? Талант? Несомненно. Но более всего тогда воздействовала на зрителя эта ошеломляющая, невозможная, сама по себе смыслосодержащая аутентичность.
Сегодня МХАТовское прошлое дальше от нас, чем античность, и противоречивее, чем татаро-монгольское иго. А между тем те же полстолетия отделяют нас от 1960-1970-х, что и 1960-е от московской премьеры.
Театр и Ксения Раппопорт выбирают в качестве «своего прошлого» начало 1960-х, время молодости самого Л. Додина и молодости родителей актрисы. Ее прошлое – доступное для осязания, теплое, понятное, живое. В ее речах слова – ничто, а интонации – всё. Интонация – смысл чеховского художественного открытия. «Это какое дерево? – Вяз. – Отчего оно такое темное? – Уже вечер, темнеют все предметы». Это не беседа юных натуралистов, а объяснение в любви. Возвращение интонации в культуру, может быть, главное завоевание театра 1960-х. Память о той интонации определяет игру К. Раппопорт. Актриса играет власть интонаций, власть взглядов и вздохов, всего того, что нельзя выразить словами.
О, эти взгляды, жесты, мимолетные гримаски, утомленное изящество тоненьких женщин в крошечных, невесомых платьицах 1960-х (от Анук Эме до никому уже не ведомой Евгении Ураловой, «Июльский дождь»); женщин, позволявших себе не взрослеть, отрекшихся от зрелой женственности ради подросткового бунтарства, выбравших свободу от семьи, одиночество и печаль, так и не получившие взамен ничего, кроме светлой памяти последующих поколений.