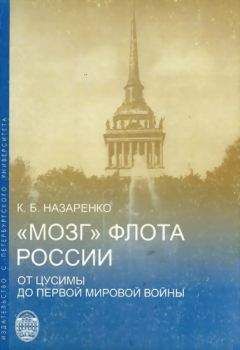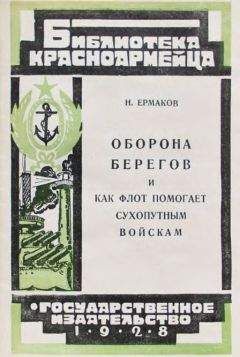Лев Скрягин - Из истории морского флота (подборка статей из журнала Морской флот за 1987-88 годы)
"Оливуца" еще не раз приходил на помощь участникам Амурской экспедиции Невельского, исследовавшей и описавшей северную часть острова Сахалин, устье реки Амур.
В начале XIX века на дальневосточных землях России хозяйничала частная Российско-Американская компания, которая занималась только добычей ценной пушнины, нимало не заботясь о заселении этих земель. А России на тихооканском побережье нужны были удобные порты для флота.
За зиму 1851-1852 гг. Невельской успел обследовать огромные территории на материке и Сахалине, установил, что залив Де-Кастри представляет ближайший к лиману рейд, выяснил сухопутные пути оттуда к Амуру и в Петровское. Несмотря на огромное значение проводимых экспедицией исследований, снабжалась она из рук вон плохо. Не хватало продовольствия, медикаментов, людей.
18 мая 1852 г. в Петровское пришел наконец корвет "Оливуца" под командованием лейтенанта И. Лихачева. Лейтенант привез бумаги от главного правления Российско-Американской компании, oт генерал-губернатора Сибири Н.Муравьева, от военного губернатора Камчатки В.Завойко. Для экспедиции же Лихачев не привез ничего. Коротенькая и резкая записка от Завойко гласила: "По неимению судов в Петропавловске корвет должен быть возвращен немедленно, а казенное довольствие в экспедицию будет доставлено осенью на боте "Кадьяк".
Экспедиция оказалась в бедственном положении. Невельской снял с корвета "Оливуца" двух мичманов и десять человек команды, оставив их в своем распоряжении, Лихачева же отправил в Аян с требованием немедленно доставить на корвете в Петровское необходимое имущество. Несмотря на предписание вернуться в Петропавловск не позднее 1 августа, Лихачев исполнил поручение Невельского и 28 июля пришел в Петровское с небольшим количеством продовольствия и товаров.
Между тем назревал русско-турецкий конфликт. Корвет поспешил к островам Вонин-Сима, чтобы соединиться с русской эскадрой. В связи с разразившейся войной командующий эскадрой Е. Путятин получил приказание со всеми кораблями идти к устью Амура, а "Оливуцу" отправил в Императорскую гавань предупредить зимующие там корабли о том, что объявлена война с Англией, Францией и Турцией.
Англичане и французы считали, что устье Амура не судоходно и поэтому не может служить убежищем для военных кораблей. Только в Петропавловске, по мнению неприятеля, могла базироваться русская эскадра.
У русского командования не было определенного военно-стратегического плана. Все мероприятия ограничивались подготовкой к обороне Петропавловска и устья Амура.
Муравьев, командующий военными силами края, послал корвет "Оливуца" из Императорской гавани в Петропавловск с приказанием укрепиться и защищаться. Передав приказ, корвет отправился в обратный путь и в море разминулся с неприятельской эскадрой, шедшей к Петропавловску.
Несмотря на то, что десант англофранцузской эскадры был отбит, Невельской предложил увести суда из Петропавловска, мотивируя это тем, что отрезанный от метрополии порт не может быть главной базой для наших судов на Дальнем Востоке.
Весной 1865 г. русская эскадра покинула Петропавловск и 6 мая была уже в заливе Де-Кастри. Корабли не могли пройти к устью Амура: лиман должен был очиститься ото льда только между 20 мая и 1 июня.
Нападения же неприятельской эскадры ждали с минуты на минуту, Вскоре она появилась, и корабли противника стали крейсировать у мыса Клостер-Камп.
На корвете "Оливуца" был созван военный совет. Большинство предлагали ждать неприятеля в заливе Де-Кастри и защищаться до последней возможности, а затем взорвать корабли и отступить на берег. Невельской предложил попытаться пройти к мысу Лазарева, а там, если дальше из-за льдов идти не будет возможности, поступить так, как решил совет.
На другой день в полночь русская эскадра снялась с якоря и направилась к лиману. Транспорты шли впереди, корвет "Оливуца" и фрегат "Аврора" прикрывали их сзади. Через несколько дней достигли мыса Лазарева, благополучно скрывшись от англичан.
Когда 16 мая неприятельский корвет в Де-Кастри русских кораблей не обнаружил, англичане бросились к югу, побывали везде, где могли оказаться русские корабли, кроме того места, где они на самом деле находились...
* * *
И.ВЛАДИМИРОВ
ПЛАВАНИЕ ВИЛЛЕМА БАРЕНЦА
08/88
Рис. mf039-m.jpg
ОН ПРОЖИЛ 47 ЛЕТ. НЕ отличался знатным происхождением. Даже фамилии не имел. Ведь Баренц - не что иное, как сокращенное отчество - Барентсзон (сын Барента).
Но написаны о нем десятки книг, в том числе большая поэма, переведенная на несколько языков. Имя его носят острова у Новой Земли, один из островов архипелага Шпицберген и одно из морей Северного Ледовитого океана.
У современников Баренц пользовался репутацией "выдающегося, известного и весьма опытного капитана". Поэтому когда в 1594 г. правительство Голландии решило отправить экспедицию "...для открытия удобного морского пути в царства Китайское и Синское, проходящего к северу от Норвегии, Московии и Татарии", всплыло и имя Виллема Баренца. Ему поручили командовать третьим кораблем, который в отличие от "Лебедя" Корнелиса Ная и "Меркурия" Бранта Тетгалеса был снаряжен на средства не правительства, а города Амстердама.
Наю и Тетгалесу удалось достигнуть на 71-й широте западного берега Ямала. Выйдя на обширное водное пространство, свободное от льдов, и увидев множество китов, они решили, что Северо-Восточный морской проход в Тихий океан открыт, и повернули обратно.
А перед Баренцем стояла другая задача - он решил обойти Новую Землю с севера. Но у северной оконечности архипелага пришлось повернуть обратно. Главным препятствием оказались не льды, все чаще преграждавшие путь, а то, что "...моряки стали тяготиться... и не желали идти дальше".
Голландия встретила путешественников с триумфом. И тут же началась подготовка новой экспедиции.
12 июля 1595 г. уже 7 кораблей покинули голландские воды и двинулись на север. Возглавил экспедицию адмирал Най. Баренц был главным штурманом и командовал одним из судов - "Винтгонтом". Уверенность организаторов в успехе граничила с самоуверенностью: в состав экспедиции включили золотых дел мастеров, гранильщиков и шлифовщиков бриллиантов, чтобы на месте превращать сокровища Востока в товары, приносящие колоссальные прибыли. Но знаменитым амстердамским ювелирам так и не понадобилось их мастерство.
Войдя в Югорский Шар, флотилия остановилась перед огромными массивами сплоченного льда. Созвав совещание капитанов, Най зачитал составленный им документ, в котором были такие строки: "...мы увидели, что богу не угодно, чтобы мы продолжали наш путь, и что надобно отказаться от предприятия". Каждый из капитанов подходил к столу адмирала, брал перо и ставил свою подпись под этим актом. Только одной подписи не было - подписи Варенца. Он отказался категорическиРазочарованное неудачей голландское правительство прекратило финансировать дальнейшие поиски Северо-Восточного прохода. Тогда амстердамские купцы сами решили снарядить еще одну экспедицию на двух судах. Сыграло свою роль и обещание правительства: "..если они удачно закончат плавание, то им будет дана незаурядная награда" - 25 тыс. гульденов. Баренца вновь назначили главным штурманом, хотя по свидетельству участников он был "душой всего предприятия, и фактическое руководство было в его руках".
Кораблями командовали Якоб ван Хеемскер и Ян Рийп.
20 мая 1596 г. суда покинули Амстердам, а спустя три недели встретили первые льды. От острова, названного Медвежий (здесь убили громадного белого медведя), Рийп повел корабли на север.
Добравшись до Шпицбергена, который приняли за Гренландию, и встретившись с непроходимыми льдами, вернулись к острову Медвежий. Здесь корабли разделились: Рийп отправился на север, а Хеемскер с Баренцем - к Новой Земле.
19 августа трехмачтовый галион Варенца обогнул северную оконечность этого архипелага, названную путешественниками мысом Желания (поморы еще раньше окрестили его мысом Дохода). Теснимое льдами суденышко вынуждено было зайти в бухту, которую стали именовать Ледяной Гаванью. Здесь решили зимовать.
11 сентября начали собирать плавник и строить дом. Через месяц окончательно переселились в него. Несмотря на круглосуточно поддерживаемый огонь в очаге, в доме было холодно. На лавках - слой льда в два пальца толщиной.
Сохранить здоровье не только физическое, но и духовное - вот что Баренц считал главным. Для этого читали вслух, ставили спектакли.
Когда позволял мороз, играли в некое подобие хоккея деревянным шариком, снятым с верхушки мачты.
Уже в ноябре пришлось сократить потребление хлеба до 200 граммов в день. Потом - еще больше...
А когда кончилась долгая полярная ночь и из-за горизонта вновь показалось солнце, начали готовиться к походу. На корабль не надеялись его борта во многих местах были проломаны льдами. Баренц предложил нарастить борта у шлюпок - в ход пошли доски от дома.