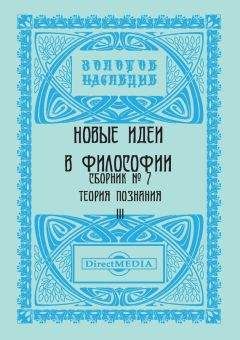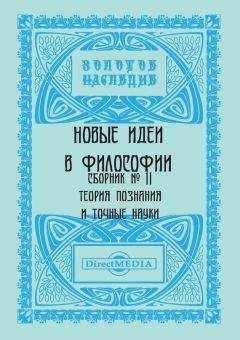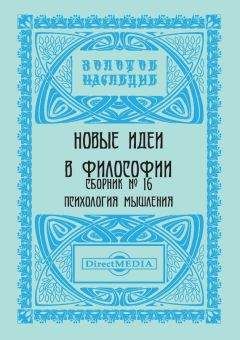Коллектив авторов - Новые идеи в философии. Сборник номер 1
Но можем ли мы уловить саму эту интуицию? У нас имеется лишь два способа выражения: понятие и образ. В понятиях развертывается система; в образе же она сжимается, когда ее отталкивают к интуиции, из которой она вышла, Если же хотеть переступить образ, поднимаясь еще выше, то неизбежно попадаешь сызнова в сферу понятий, притом понятий, более общих и неопределенных еще, чем те понятия, которые послужили исходным пунктом поисков образа и интуиции. Низведенная до этой формы, так сказать, закупоренная при выходе из источника, первичная интуиция должна непременно представиться чем-то крайне плоским и холодным, какой-то воплощенной банальностью. Если бы мы сказали, например, что Беркли рассматривает человеческую душу, как отчасти соединенную с Богом, отчасти независимую от него, что он в каждое мгновение сознает себя как несовершенную активность, которая воссоединилась бы с некоторой высшей активностью, если бы между ними не было расположено нечто, являющееся абсолютной пассивностью, то мы выразили бы таким образом ту сторону первичной интуиции Беркли, которая может непосредственно быть переложена на язык отвлеченных понятий – и, однако, мы получили бы нечто столь абстрактное, что оно было бы почти пусто. Останемся при этих формулах, так как ничего лучшего мы не сумеем найти, но попробуем вдохнуть в них немного жизни. Возьмем все то, что написал наш философ, соберем все эти рассеянные идеи у образа, из которого они вышли, поднимем их, заключенных теперь в этом образе, до абстрактной формулы, которая наполнится образом и идеями, останемся затем возле этой формулы и начнем глядеть, как она, столь простая, станет делаться еще более простой – тем более простой, чем больше вещей мы втиснули в нее – поднимемся, наконец, вместе с ней до той точки, где будет сжато и примет форму напряжения все то, что имело форму протяжения в системе: только тогда мы сможем представить себе, как из этого центра сил – впрочем, недоступного – исходит импульс, несущий с собой порыв (l'élan), т. е. сама интуиция. Здесь источник четырех тезисов Беркли, ибо вызванное интуицией движение встретило на своем пути поднятые современниками Беркли идеи и проблемы. В другую эпоху Беркли, без сомнения, формулировал бы иные тезисы. Но, так как движение было бы тем же самым, то эти новые тезисы были бы точно таким же образом расположены друг относительно друга, между ними было бы то же самое отношение, как между новыми словами, в которых заключен старый смысл: это было бы та же самая философия.
Отношение какой-нибудь философии к предшествующим и современным ей системам не похоже, следовательно, на то, что заставляет нас предполагать одна известная концепция истории систем. Философ не берет вовсе существующих до него идей, чтобы слить их в некий высший синтез или чтобы комбинировать их с какой-нибудь новой идеей. Думать так все равно, что полагать, будто мы, желая говорить, начинаем искать слова, которые склеиваем затем с помощью какой-нибудь мысли. Истина же заключается в том, что поверх слова и поверх предложения есть нечто, гораздо более простое, чем предложение и даже чем слово: именно смысл, который есть не столько передуманная мысль (une chose pensée), сколько движение мысли (un mouvemont de pensée), и не столько движение, сколько направление. И подобно тому, как импульс, данный зародышевой жизни, вызывает деление первичной клетки на другие клетки, которые, в свою очередь, делятся до тех пор, пока не получится законченный организм, – так и характерное для всякого акта мысли движение приводит к тому, что эта мысль, в своих все растущих подразделениях, расширяется все более и более в разных плоскостях духа, пока она не достигнет плоскости слова. Здесь она выражается путем предложения, т. е. с помощью группы существующих заранее и готовых элементов. Но она может выбрать почти произвольно первые элементы группы, лишь бы остальные правильно дополняли их: одна и та же мысль может быть выражена различными предложениями, составленными из совершенно различных слов, лишь бы эти слова представляли между собой одно и то же отношение. Таков процесс речи. И такова также та операция, с помощью которой конституируется какая-нибудь философская система. Философ не выходит из готовых, существующих уже заранее, идей; он разве приходит к ним. А когда он приходит к ним, то идея, увлеченная таким образом движением его мысли, одушевленная новой жизнью, как и слово, которое получает свой смысл из всего предложения, не есть совершенно то, чем она была вне вихря.
Аналогичное отношение мы нашли бы между философской системой и совокупностью научных познаний современной философу эпохи. Существует такое понимание философии, согласно которому все усилия философа направлены на то, чтобы обнять в одном гигантском синтезе результаты частных наук. Конечно, в течение долгого времени философ являлся обладателем универсального знания. И даже в настоящее время, когда бесконечное множество частных наук, разнообразие и сложность методов, огромная масса собранных фактов делают невозможным сосредоточение в одном мозгу всех человеческих знаний, даже и в это время философ остается человеком универсального знания в том смысле, что, если он и не может более знать всего, то не существует такой отрасли знания, для усвоения которой он не должен был бы быть готовым. Но следует ли отсюда, что его задача сводится к тому, чтобы овладеть уже готовым знанием, поднимать его на все высшие ступени общности и – идя от обобщения к обобщению – достигнуть таким образом того, что было названо объединением науки? Позвольте мне выразить свое недоумение, что нам предлагают во имя науки, из уважения к науке, такое понимание философии, которое на мой взгляд, обиднее всего для науки и оскорбительнее всего для ученого. Как! Вот перед нами человек, долго поработавший на определенном научном поприще и достигший, путем усиленных трудов, известных результатов. Этот человек говорит нам: «опыт, руководивший размышлением, доводит до такого-то пункта; научное познание начинается здесь, кончается там; таковы мои заключения». И тут-то, оказывается, вмешивается философ и заявляет: «Отлично, оставьте-ка мне все это, и вы увидите, что я из этого сделаю! Принесенное вами незавершенное знание – я завершу. То, что вы мне даете разъединенным, я соединю. Имея те же самые материалы (ведь я, понятно, буду оперировать лишь теми фактами, ко торые вы наблюдали), пользуясь тем же методом работы (ведь я должен, как и вы, ограничиваться индукцией и дедукцией), я сумею сделать и больше и лучше, чем сделали вы». По истине странная претензия! Каким образом профессия философа может наделять занимающегося ею даром идти дальше, чем наука, в избранном ею направлении? Что некоторые ученые склонны более, чем другие, идти вперед и обобщать полученные ими результаты, или же также склонны более возвращаться назад и критиковать употребляемые ими методы, что в этом специальном смысле слова их можно назвать философами и что каждая наука может и должна иметь понятую таким образом философию – со всем этим я первый готов согласиться. Но такая философия все еще наука, и тот, кто ею занимается, тот все еще ученый. Дело ведь не идет уже более о том, чтобы сделать из философии синтез положительных наук и воображать, будто одной силой философского духа можно подняться на большую высоту, чем наука, при обобщении изучаемых ею фактов.
Такое понимание роли философа было бы оскорбительно для науки. Но во сколько раз оно еще более оскорбительно для самой философии! Не ясно ли разве, что там, где ученый останавливается на пути обобщения и синтеза, там, значит, останавливается и объективный опыт и надежная дедукция? И, следовательно, если мы станем воображать себе, что можем идти вперед в том же направлении, то мы систематически станем на путь произвола или, по меньшей мере, гипотетического конструирования? Делать из философии совокупность обобщений, идущих далее научных обобщений, это желать от философа, чтобы он довольствовался правдоподобным и ограничивался вероятным. Я отлично знаю, что для большинства тех, кто издали следить за нашими спорами, наше царство – это царство возможного, в лучшем случае – вероятного. Эти сторонние зрители охотно готовы сказать, что философия начинается там, где кончается достоверность. Но кто из нас примирился бы с такой ролью философии? Разумеется, не все одинаково проверено и не все доступно проверке в том, что приносит с собой философская система; в самом существе философского метода лежит то, что он требует в известные моменты от нашего духа решимости принять на себя известный риск. Но, если философ берет на себя этот риск, то потому, что он застраховал себя, потому, что есть вещи, в которых он непоколебимо уверен; он сумеет уверить в них и нас постольку, поскольку он сумеет передать нам ту интуицию, в которой он черпает свою силу.
На самом деле философия не есть вовсе синтез частных наук. И если она часто становится на почву науки, если иногда она охватывает в более простом видении те предметы, которыми занимается наука, то достигает она этого не тем, что интенсифицирует науку, не тем, что поднимает результаты науки до более высокой степени общности. Не было бы места для двух способов познавания – для философии и для науки – если бы опыт не раскрывался перед нами с двух различных аспектов, с одной стороны, под видом фактов, которые рядополагаются друг подле друга, которые повторяются с большим приближением, которые измеряются, которые, наконец, развертываются в форме раздельного множества и пространственности, – а, с другой, под видом взаимнопроникновения, являющегося чистой длительностью, не поддающейся закону и мере. В обоих случаях опыт означает сознание, но в первом случае сознание распространяется вовне, оно становится внешним по отношению к самому себе ровно постольку, поскольку оно замечает вещи внешними друг относительно друга; во втором же – оно входит в себя, находит и углубляет себя. Погружаясь таким образом в собственную глубину, проникает ли оно дальше во внутрь материи жизни, вообще действительности? В этом можно было бы сомневаться, если бы сознание присоединилось к материи, как нечто случайное. Но мы, как нам кажется, доказали, что подобная гипотеза – в зависимости от того, с какой стороны на нее посмотреть – абсурдна или ложна, внутренне противоречива или противоречит фактам. В этом можно было бы еще сомневаться, если бы человеческое сознание – хотя и родственное с более обширным и высоким сознанием – было бы отстранено, если бы человек должен был стоять в каком-нибудь углу природы, как наказанный ребенок. Но ведь нет! Материя и жизнь, наполняющие мир, находятся и в нас; мы чувствуем силы, обнаруживающиеся во всех вещах, и в нас; какова бы ни была интимная сущность того, что есть, и того, что делается, мы причастны этой сущности. Опустимся во внутрь самих себя, чем глубже будет расположена та точка, которой мы коснемся, тем сильнее будет давление и порыв, которое выпрет нас наверх. Философская интуиция есть это прикосновение, философия есть этот порыв. Выведенные наружу импульсом, который приходит из глубины, мы достигнем науки по мере того, как наша мысль станет разбрасываться и расширяться. Философия поэтому должна отливаться по форме науки. Мнимо-интуитивная идея, которая не сумела бы путем последовательных делений охватить наблюдаемых вовне фактов и законов, служащих науке для связывания этих фактов между собою, идея, которая не оказалась бы способной внести даже поправки в некоторые обобщения и исправить некоторые наблюдения, была бы чистой фантазией; она не имела бы ничего общего с интуицией. Но, с другой стороны, надо помнить, что идея, которой удается охватить таким образом научные факты и законы, не получена вовсе путем объединения внешнего опыта; ведь философ не пришел к единству, а вышел из него. Работа, с помощью которой философ, как кажется, ассимилирует результаты положительной науки, а также и та операция, в течение которой философская система как бы вбирает в себя отрывки предшествующих философий, есть работа не синтеза, а анализа.