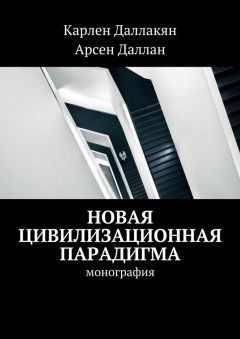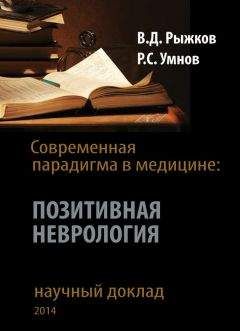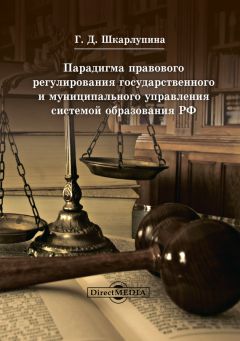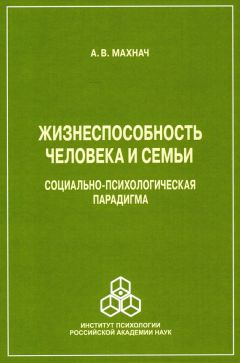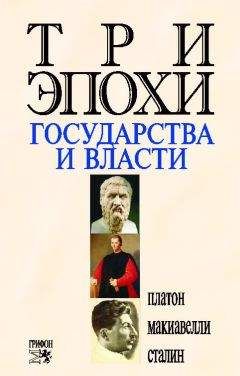Анна Кимерлинг - Выполнять и лукавить. Политические кампании поздней сталинской эпохи
Следующий этап становления традиции изучения повседневности связан одновременно и со школой «Анналов», и с творчеством А. Шюца, а назвать его можно феноменологическим. Это связано с появлением и применением в практике исторического и социологического исследования принципов феноменологии Э. Гус серля. Для М. Блока «предмет истории, в точном и последнем смысле, – сознание людей. Отношения, завязывающиеся между людьми, взаимовлияния и даже путаница, возникающая в их сознании, – они-то и составляют для истории подлинную действительность»[145]. «Время истории – это плазма, в которой плавают феномены. Это как бы среда, в которой они могут быть поняты»[146]. «Исторический феномен не может быть понят вне его времени»[147]. Все это позволяет вслед за некоторыми исследователями сделать вывод о том, что мы имеем право определить М. Блока как «представителя феноменологического направления в изучении истории»[148]. Это суждение кажется вполне справедливым. Если феноменология есть попытка изучения мира без применения предубеждений в виде готовой теории, под которую подгоняются факты, то творчество этого ученого, пытавшегося вникнуть в смысл поступков людей прошлого, исходя из их собственных смыслов, – это феноменологический подход в истории.
Разумеется, вся долгая история развития школы «Анналов» не укладывается в такое определение. Но ставка на изучение человека через те смыслы, которые он сам вкладывает в собственные действия, позволила впоследствии появиться и микроистории К. Гинзбурга, и новой социальной истории Э. Томпсона. Но и тут честь введения концепции повседневности в исторический оборот принадлежит одновременно и французским историкам школы «Анналов», и А. Шюцу, опиравшемуся на теорию феноменологии Э. Гуссерля. В интерпретации А. Шюца повседневность есть мир, «который бодрствующий взрослый человек, действующий в нем и воздействующий на него наряду с другими людьми, переживает в естественной установке как реальность»[149]. Повседневность при этом есть мир интерсубъективный в том смысле, что он разделяем с другими людьми, как современниками, так и жившими до него. А также повседневность является «верховной реальностью», противопоставленной другим реальностям, таким как наука, идеология, игра, искусство, получившим название «конечных областей значения»[150]. Из этих предпосылок вытекает множество выводов, важных в том числе и для исторического исследования повседневности. Например, мир повседневности конструируется в совместной деятельности людей, не важно – конфликтной или мирной. Иными словами, какие бы сильные шоковые импульсы ни вторгались в повседневный мир, социальная поведенческая реакция на них всегда будет вырабатываться в совместной деятельности людей. Одно это ставит под сомнение схему объяснения сталинизма, согласно которой общество сталинской эпохи являлось атомизированным и подчиняющимся простой манипуляции. Или: мир повседневности взаимосвязан с другими конечными областями значений, точнее, человек постоянно перемещается между ними. Так, в рассуждениях Шюца процесс написания научного текста подразумевает, что ученый, формулируя мысль, находится не в повседневности, а в мире «научного созерцания», но постоянно переключается в повседневность, когда возникает необходимость записать мысль, выступить перед коллегами, пойти в архив[151]. Аналогично действует и любой актор, в том числе и в рамках политических кампаний. Мир идеологических построений, воспроизводимых в газетной статье или при выступлении оратора на собрании, не есть мир повседневности, но повседневность проявляется, например, в процедурах собрания, в типичных («бытовых») объяснениях своих поступков, в организации работы агитаторов во время проведения выборов или в процедурах заполнения формуляров и отчетов. Это лишний раз на теоретическом уровне доказывает, что при изучении кампаний в сталинскую эпоху будет неверным называть их идеологическими и пропаган дистскими (т. е. относящимися к сфере идеологии), но следует говорить о политических кампаниях в том смысле, что это процессы взаимодействия между идеологией, властными институтами и людьми.
Несмотря на то что понимание повседневности в работах А. Шюца было проработано с большой глубиной, на тот момент оно не приобрело особой влиятельности в гуманитарных науках. Так, Ф. Бродель понимал под повседневностью нечто иное, а именно «системы достаточно устойчивых отношений между социальной реальностью и массами», включающие «географические, демографические, агротехнические, производственные и потребительские условия материальной жизни», а также «собственно экономические структуры общества, связанные со сферой обмена… и возникающие на их основе социальные структуры, начиная с простейших торговых иерархий и заканчивая, если того требует предмет исследования, государством»[152], а современные историки вообще понимают повседневность слишком аморфно, как то, «что происходит каждый день, в силу чего не удивляет»[153]. Тот факт, что в середине ХХ в. так и не удалось перебросить мост между социолого-философской и исторической трактовкой повседневности, объясняется достаточно просто. Как известно, А. Шюц при жизни издал лишь одну книгу в 1932 г. и предпочитал оставаться свободным ученым, став преподавателем только под конец жизни, в 1952 г.[154] Не способствовала популяризации его идей и чрезмерная усложненность его теоретических построений. Только в результате деятельности его учеников П. Бергера и Т. Лукмана, обобщивших его взгляды и придавших теории повседневности более или менее стройный вид, эта концепция стала приобретать популярность в 1960-х годах.
Именно в период 1960–1970-х годов начинается настоящее сближение социологической теории повседневности и исторической науки. Этому предшествовало несколько очередных попыток «обновить» историю, например в рамках устной истории либо истории Х. Уайта и Д. Ла Капра. Правда, эти попытки означали скорее капитуляцию истории как науки, нежели методологиче ские прорывы. Так, попытки «соединить историю, литературу и философию», равно как и последовавший за этим «новый историзм», а также постструктуралистский историзм Р. Барта выглядели больше как вторжение иных наук на поле истории или отрицание за историей статуса полноценной науки, чем как выработка новой исследовательской парадигмы.
Стоит упомянуть историческую социологию, возникающую как раз в этот период, в 1950–1980-е годы (Р. Бендикс, Б. Мур, И. Валлерстайн и др.). Но, по словам М. Крома, для исторических социологов в большей степени характерна попытка генерализаций и поиска каузальных связей, чем внимание к историческому контексту[155], т. е. они действуют, скорее, в рамках макросоциологических подходов и поэтому к рассматриваемой теме не относятся.
Выход из обострившегося кризиса методологии истории произошел благодаря П. Бергеру и Т. Лукману, чья книга «Социальное конструирование реальности» вышла в 1969 г. Социология повседневности на тот момент еще не была в ходу. Поэтому содержание этой книги было и банальным, и провокационным одновременно. Опираясь на К. Маркса, М. Вебера, К. Манхейма, А. Шюца и Дж. Мида, авторы утверждали, что «все объективные условия жизни людей определяют их мышление. С такой точки зрения даже субъективные условия, от которых, по мнению индивида, зависят его мышление и деятельность, являются на самом деле объективными условиями, потому что у них имеется общественно обусловленная предыстория, которая входит в индивидуальную биографию человека и ограничивает действия и идентичность вполне определенными возможностями»[156]. Тем самым в книге поднимался и заново решался извечный вопрос многих гуманитарных наук: соотношение между личным восприятием мира и большими социальными структурами. И если ранее ответ на него давался в пользу социальных структур, определявших поведение людей по «объективным» законам истории и социологии, то теперь ответ звучал иначе: люди сами в ходе взаимодействий «лицом к лицу» создают устойчивые шаблоны поведения, которые затем ими объективизируются, т. е. начинают восприниматься как существующие до начала взаимодействия, затем легитимизируются (получают «объективное» объяснение и обоснование) и тем самым институциализируются, приобретают принудительную силу. Именно так рассуждали и первые представители микроистории – Дж. Леви, К. Гинзбург, Э. Ле Руа Ладюри. Как пишет С. Черутти, «решение ограничить поле исследования, спустить его до “микро”-уровня и тщательным образом выискивать единичных “действующих лиц” исторических процессов стало реакцией на высокомерие и самонадеянность сторонников этаблированного исторического “здравого смысла”, навязывавшего определенные временные масштабы исследования, его границы и понятийный аппарат, что нередко приводило к возникновению грубых анахронизмов»[157]. Пытаясь их избежать, микроистория переносит акцент на изучение объекта «под микроскопом», и именно благодаря «максимально многостороннему и точному освещению исторических особенностей и частностей, характерных для общности индивидов исследуемого района, взаимосвязь культурных, социальных, экономических и политико-властных моментов раскрывается как взаимозависимость всех объектов исторического бы тия»[158]. Да и сами представители микроистории указывают на то, что одним из стимулов разработки этой теории являлась «собственная динамика внутринаучных противоречий и событий, как, например, широкие интеллектуальные дебаты по проблемам гуманитарных наук и особенно вызов, брошенный социальной истории этнологией и культурно-антропологическими исследова ниями»[159].