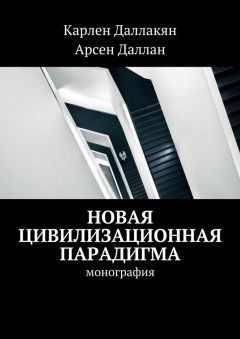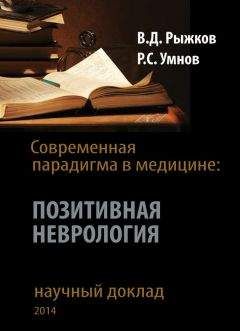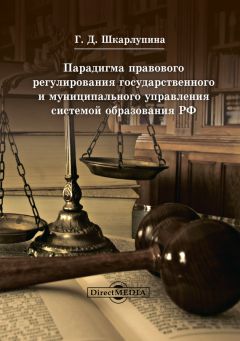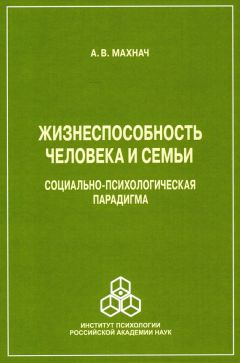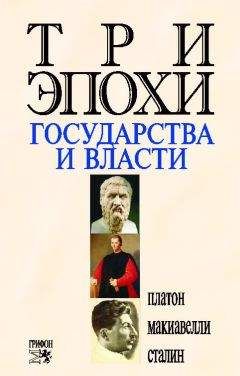Анна Кимерлинг - Выполнять и лукавить. Политические кампании поздней сталинской эпохи
Сегодня вряд ли кто из исследователей будет отрицать тот долгий и трудный путь, который прошла методология исторической науки в ХХ в. от позитивизма до микроистории, cultural history и конструктивизма (т. е. «Изобретение традиции» Э. Хобсбаума). Но так же сложно утверждать, что история как наука сегодня обладает единым, структурированным исследовательским инструментом, позволяющим без особого труда найти нужный метод для каждого своего предмета. Разговоры о кризисе методологии истории продолжаются, несмотря на множество работ, посвященных этой самой методологии[124]. Новые подходы, обозначаемые как многочисленные «повороты» (лингвистический, прагматический, культурный и т. п.) гуманитарной мысли, свидетельствуют не столько о его преодолении, сколько о мучительных поисках выхода. И этот процесс далек от завершения.
Микроисторическая традиция в рамках данной работы будет пониматься не в узком смысле (как теория микроистории, сформулированная К. Гинзбургом и его коллегами), а как широкий набор подходов, охватывающий значительное количество исторических школ ХХ в., для которых стало важным увидеть прошлое в его реальности, несводимой к иллюстрации политической, социологической или экономической теории. Концепты архетипа, повторяемости[125], равно как и концепты повседневности, практик и дискурсов, заимствованные из других наук, дают новый толчок для изучения собственно истории, без ее редукции к политическим или социологическим теориям. Поэтому не случайно в данной работе в качестве классифицирующего термина этого крупного направления выбрано слово «традиция». Он подчеркивает, что речь идет не о последовательных и поступательно развивающихся учениях об истории, но, скорее, о направлениях мысли, о четырех способах говорить об истории, объединяющих различных по времени жизни, взглядам, вкладу, масштабу рассмотрения авторов. Действительно, термин «научная школа» подразумевает, как минимум, единство изначальных позиций, набора аксиом, родоначальника. Термин «традиция» задает не такие жесткие рамки.
Во второй половине ХХ в. микроисторические подходы стали полноправным, а зачастую и модным инструментарием исторических исследований. Но само по себе это не снимает оппозицию «больших теорий» и микроисследований. Зачастую даже провозглашение автором микроисторической оптики исследования еще не означает следования этому принципу в реальности. Так, например, происходит в работе С. Ушаковой «Идеолого-пропагандистские кампании в практике функционирования сталинского режима: новые подходы и источники»[126], где знаковые термины «практика» и «новые подходы» в заголовке никак не подкреплены изучением практических действий ни инициаторов кампаний, ни рядовых граждан, что само по себе не согласуется с исследовательской программой теории практик, как это будет показано ниже. На самом деле С. Ушакова сделала серьезный анализ действий власти по мобилизации населения на основании изучения средств массовой информации и нормативных документов. Однако здесь наблюдается существующая терминологическая путаница.
В то же время уход от нарратива и макроисторических обобщений не означает формирования единой исторической методологии. Как указывает Н. Копосов, «трудности микроистории заключаются в том, что она невозможна как самостоятельная по отношению к распавшейся макроистории перспектива. Ее проблематика и ее понятия заимствованы у макроистории и получают смысл только благодаря имплицитному соотнесению с “большими нарративами”. Именно поэтому микроистория гораздо естественнее вписывается в логику кризиса социальных наук, нежели в логику его преодоления»[127], поскольку она оказалась не преодолением, а скорее хорошим дополнением к «большой истории».
Кроме того, микроисторическая традиция зачастую видит феномены не в их непосредственной данности, а как знаки проявления той или иной скрытой силы, чаще всего политической. Так, история клиник у М. Фуко оказывается механизмом дисциплинирующей власти, средневековые войны у Ф. Броделя – продолжением экономики, а «великое кошачье побоище» в Париже XVIII в. у Р. Дарнтона – высмеиванием системы правового и социального мироустройства[128]. Сама микроисторическая традиция и теории смежных гуманитарных наук, привлекаемые в качестве теоретического подспорья начиная со времен школы «Анналов», чаще всего создавались в рамках левой, критической европейской мысли, что не могло не сказаться на их проблематике и общей направленности. В результате на многие микроисторические исследования можно перенести упрек, высказанный В. Вахштайном в адрес политической теории: «После политологической реконкисты мир никогда не будет прежним: мы научились видеть политическую волю, игру сил, отношения власти и доминирования там, где раньше видели повседневные и привычные социальные действия… Политические активисты… сумели доказать, что езда на велосипеде и городское садоводство – не что иное, как формы политического протеста»[129]. Однако так же как чрезмерное стремление во всем увидеть политику грозит потерей Политического (ибо если политика во всем, то ее просто нет), так и стремление свести исторические события (не важно, большие или малые) к тому или иному концепту (повседневности, дискурсу, практикам) грозит потерей Истории.
Означенные проблемы показывают, что сегодня невозможно создать единую методологическую основу исторической науки. В настоящий момент наиболее продуктивным представляется подход, при котором будут сочетаться макроисторические и микроисторические оптики в той мере, в которой они работают на цель исследования. Предмет настоящего исследования – политические кампании позднего сталинского периода – это, скорее, явление макроуровня в том смысле, что они разворачиваются в масштабах большой страны, реализуются большим количеством институций, вовлекают в поле своего действия большое количе ство людей в качестве организаторов, исполнителей или рядовых участников. Однако понимание политических кампаний как исключительно идеологических посылов сверху вниз либо как форм презентации господствующей идеологии кажется слишком однобоким. А ведь именно так они и трактуются большинством исследователей, что находит отражение и в применяемой терминологии: «идеологические кампании» у В. Гижова[130] и «идеолого-пропагандистские кампании» у С. Ушаковой[131]. Такой подход не учитывает, что между планом и реальностью, между лозунгом и его реализацией существует огромная пропасть, возникающая благодаря многочисленным факторам, не последнюю роль среди которых играют культура, повседневные практики, групповые интересы и многое другое.
Рассматривать политические кампании исключительно через призму повседневности тоже не кажется продуктивным. При таком подходе повседневность превращается в замкнутый социальный мир, куда если и долетают сигналы «большего мира», то исключительно как принудительные стимулы для реагирования. «Историк повседневности ставит перед собой задачу понять групповые и индивидуальные реакции отдельных людей на правила и законы их времени», – считает И. Орлов, автор наиболее полного историографического труда по советской повседневности[132]. Конечно, между поведением шоковым, экстраординарным (т. е. спровоцированным политическими и социальными нормами и установками) и поведением повседневным, рутинным, существует зазор. Эти типы поведения нельзя смешивать, но также их нельзя и противопоставлять. Скорее, можно говорить об их взаимовлиянии и взаимопроникновении, когда на уровне повседневности начинают появляться практики, напрямую связанные с идеологическими клише, и, напротив, публичное, стимулированное указами «сверху» поведение оказывается пронизано повседневными практиками.
Чтобы добиться лучшего понимания сложной взаимосвязи между двумя уровнями анализа, необходимо совершить несколько экскурсов в теории повседневности и микроистории.
2.2. Микроисторическая традиция и теория повседневности
Развитие микроисторической традиции в ХХ в. прослеживается как минимум с 1910-х годов. Именно тогда начинают появляться труды, ставящие своей целью написание «истории, как она есть». Одновременно с этим в гуманитарных науках разворачивается еще одно направление мысли, без которого не могли бы появиться ни микроистория, ни история повседневности. Речь идет о социологической теории повседневности, подкрепленной философской мыслью. Можно усмотреть определенную схожесть в развитии двух этих интеллектуальных течений в истории и в социологии, до поры существовавших параллельно и только потом, по прошествии десятилетий, взаимно обогативших друг друга. Одно из направлений (историческое) явно выстраивается от Й. Хёйзинги через школу «Анналов» к новой истории и дальше, к микроистории, уликовой парадигме, а второе – социологическое – от американского символического интеракционизма и феноменологии Э. Гуссерля через открытие повседневности А. Шюцем и Г. Гарфинкелем к идее конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана и далее, к идее конструирования исторической памяти, наций, знания у Э. Хобсбаума, П. Нора, Б. Андерсона и проч. Условно эти последовательности можно схематично представить в табл. 1.