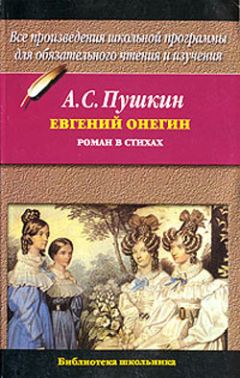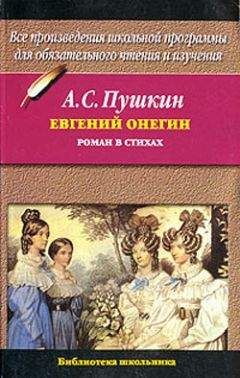Юрий Чумаков - Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений
Все это понадобилось Тютчеву не столько для стилистической коррекции соседних строф, сколько для того, чтобы придать прежней строфе новую композиционную функцию. В ВГ1 пространство просекается по вертикали сверху вниз, с неба – на землю. Соответственно, и лирический сюжет, понятый как динамическая сторона композиции, проходит две логические ступени, создавая коллизию тезы и антитезы. Грандиозная громовая симфония, резонирующая в небе «из края до другого края», отзвучивается более сдержанной сюитой горы и леса. Масштаб и объем несравнимо меньший. Строфа Гебы, третья ступень сюжета, снова поднимает нас вверх, в еще более высокую точку, чем раньше, в наднебесье, откуда гром, молнии и ливень уже в мифическом обличье обрушиваются на землю. Есть любопытная параллель к сюжетно-композиционному устройству «Весенней грозы»-1. Это стихотворный драматический опыт Пушкина «Скупой рыцарь». Там чередуются верхняя, нижняя и средние точки зрения в пространстве: башня, подвал и дворец. Это тот же самый пространственный ход, лишь повернутый на 1800, и поэтому смысловые пути драмы иные, нежели в «Грозе». В драме коллизия поворачивается к равновесию, пусть и мнимому, в стихотворении верх берет одностороннее устремление. Из всего этого следует, что вторая строфа ВГ1 находится в более слабой логической, интонационной и даже ритмической позиции, сравнительно с третьей строфой ВГ2, и совсем неудивительно, что она вторит гораздо скромнее. Ее композиционное место – другое.
Теперь третья строфа ВГ2 (бывшая вторая) занимает важное место в четырехчастной композиционной конструкции 3 + 1. Это означает, что стихотворение развертывает свой смысл в три более или менее ровных шага, иногда слегка восходящих, а затем четвертым энергичным рывком попадает как бы на возвышение, которое собирает в себе предшествующие усилия или переключает их в иной план (см. ст. «Безумие», «И гроб опущен уж в могилу…», «Смотри, как на речном просторе…» и др.). Четвертая строфа является, таким образом, подобием замкового камня, держащего весь свод. В четырехчастной композиционной структуре этого типа особое значение приобретает третья строфа, которая должна быть опорной в подготовке последнего шага, и поэтому в ней нельзя допустить никакого снижения, потери масштаба, энергетики действия, интонационного ослабления, задержки на частностях и т. п. На ней нельзя споткнуться. В этом направлении пошла работа Тютчева. Перенося без изменения строфу о Гебе и громокипящем кубке в излюбленную форму, Тютчев хотел внести живость, новые красочные оттенки и роскошную оправу для дорогих ему образов. На этом пути поэта ожидали большая творческая удача и немалые неожиданности.
Однако это выяснится позже. А теперь, когда мы совершили опыт реконструкции филигранной переделки ВГ, осуществленной Тютчевым в самом начале 1850-х гг., остается еще раз взглянуть на не тронутый им финал, ради которого, скорее всего, инкорпорирована в текст целая строфа. Она неизбежно должна была сдвинуть прежний смысл – и это произошло. В ВГ1 явление Гебы соединяло тезу и антитезу неба и земли. В структуре догматического фрагмента сюжет двигался двуслойно, и мифический план из глубины аллегорически просвечивал сквозь природные картины. В ВГ2 дело обстоит иначе. Раньше Тютчев мог думать, что возвратные смысловые волны на короткой дистанции ассоциативно перенесут Гебу в начало стихотворения, но в позднем варианте сюжет удлинился на целую строфу, и надо было имплицитный миф Гебы обозначить заметно. А может быть, ему захотелось концентрировать и грозовой, и мифический миры вокруг Гебы, сделать ее образ, оживотворяющий, ликующий, юный и страстный, средоточием всего стихотворения. С этой целью Тютчев рассыпал по всему тексту признаки присутствия Гебы, явленные и сокровенные в одно и то же время. То, что он выстраивал как параллельные планы или даже как следующие друг за другом и лишь затем совмещающиеся (см., например, «В душном воздуха молчанье…», где едва ли не впервые разыгрывающаяся гроза и состояние девушки отчетливо сопоставлены как подобия), – в ВГ2 приобрело структуру своего рода двустороннего тождества, где грозы гром и Геба с громокипящим кубком, в сущности, одно и то же. Создавая это взаимопроникновение, Тютчев, как и в других случаях, употребил весь свой поэтический арсенал, из которого мы приводим лишь лексическую цепочку. Весенний, резвяся и играя, в небе голубом, раскаты молодые, (неназванный ветер – к ветренной Гебе), перлы дождевые (вместо каплей дождевых в других стихотворениях), солнце нити золотит, поток проворный, гам, гам и шум, весело – все теневое присутствие Гебы собирается в финале креативной фразой Ты скажешь (это автокоммуникация, а не обращение к собеседнику!) в рельефно-пластическую панораму с героиней в центре. В результате Тютчев, не изменивший в строфе о Гебе ни единого знака, чрезвычайно осложнил сеть ее зависимостей от остального текста, укрупнил и углубил смысловую валентность финала. «Весенняя гроза» стала сгустком природно-космических стихий, в котором растворено человеческое начало, праздничное и катастрофическое.
* * *Казалось бы, на этой мажорной ноте удобнее всего завершить рассмотрение ВГ1 и ВГ2. Однако наша тема еще не исчерпана. Поэтика «Весенней грозы», как ее знают в поздней версии, производит еще более неотразимое впечатление тем, что она переступила свое время, шагнув прямо в XX век. Черты многослойности и осложненной семантики, которую она приобрела после того, как Тютчев встроил в ВГ1 новую строфу, сдвинули первоначальную логику развертывания текста, расторгли прежде бывшие связки, внесли нелинейные отношения и возбудили центробежные силы в структуре. Усилив динамику в начале новой строфы и тут же резко затормозив ее, Тютчев пошатнул последовательность поэтических образов. Если же прибавить сюда отмеченное Л. В. Пумпянским «свойственное Тютчеву в беспримерной степени смещение слова, наклон его оси, едва заметное перерождение смыслового веса»,[493] или, как мы хотели бы выразиться, превращение основного значения слова в клубок колеблющихся коннотатов, то, право, о Тютчеве можно сказать, что он задолго до Мандельштама уже предчувствовал его поэтику. Во всяком случае, сам Мандельштам 80 лет спустя шел по тем же путям: «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку».[494] Если Тютчев уже знал это, то лишний раз поймешь, почему «наклоны» его слова были приняты и усвоены символистами.
Гений есть гений. Означает ли это, что при разборе его вещи нам не остается ничего, кроме восторгов? Нет, конечно. Критический взгляд и здесь необходим, потому что Тютчев при создании оглушительной поэтики своего шедевра воспользовался не мелкими и недоработанными набросками, а взломал отличный текст с устойчивой, крепкой и сбалансированной конструкцией. Невольно возникает мысль об издержках и последствиях эксперимента, о цене, заплаченной за очевидный успех. Стилистическое разнообразие, динамика, расцвеченность и сияние новой второй строфы, экстраполяция ее обогащенной поэтики на обе стороны, сплочение триптиха в панораму грохочущей природы – это великолепие, роскошь поэтических средств, их насыщенность и преизбыток наклонили в какой-то степени композиционную сборку всего четырехчастного стихотворения. Не трогая этой переусложненной структуры, о которой, собственно, говорилось выше, мы экспонируем лишь самое главное – смещения композиции ВГ2.
Вторая строфа оказалась слишком весомым компонентом в движении лирического сюжета от начала к концу. Она не вписалась в последовательность звеньев, ведущих к завершающему финалу, где надо было подчиниться поступательному ходу стихотворения. Достаточно обратиться к вторым строфам четырехчастных идиожанров Тютчева, построенных по примеру 3 + 1 («Безумие», «И гроб опущен уж в могилу…», «Смотри, как на речном просторе…» и др.), чтобы увидеть разницу. Вторая строфа ВГ2, оставив за собой известную долю автономности и самодостаточности, претендует теперь на статус второго композиционного центра, притягивающего к себе окружающие строфы и тем самым ослабляющего позиции финала с Гебой и громокипящим кубком. Финал, разумеется, сохраняет функцию архитектонической опоры и концовки, но над ним надстроен как бы лишний этаж, который слегка наклоняет все здание. Под влиянием второй строфы «усиленная» третья отводит часть смыслового пучка, направленного на финал, стремясь скользнуть мимо цели. Происходит борьба встречных сил внутри композиционных центров, расстояние между которыми слишком мало. Создается впечатление, что риторическая энергетика и пафос восходящей интонации обрывается в стихе Все вторит весело громам, а финал поневоле звучит в пониженной тональности резюмирующего мифологического суждения. В итоге наблюдаем композиционную разбалансированность вещи и как следствие – тенденцию строфы о Гебе и громокипящем кубке отслаиваться от грозового триптиха. Осознал ли сам Тютчев опасность композиционного наклона или пренебрег ею – мы не знаем. Возможно, он, как и во многих других случаях, допустил гениальное нарушение правил, и, как всегда, вышло хорошо. «Весенняя гроза» стала подобием Пизанской башни. Вот только предполагал ли Тютчев, что он самолично спровоцировал будущих редакторов на многократное отсечение любимой им строфы?