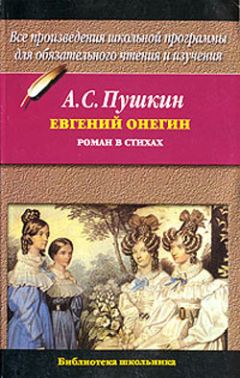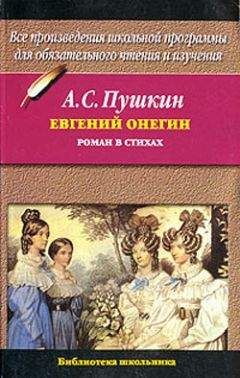Юрий Чумаков - Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений
Еще одно о ВГ1. Это не пейзажная картина и менее всего описание природного явления, но живописный и звучащий мифопоэтический образ мироздания в момент ритмообразующей и живительной встряски. Не гроза, хотя и гроза тоже, а «знак всеобщей жизни».[480] Мнимая холодноватость стихотворения зависит от его задачи, от дидактико-аллегорической двупланности, «которая всегда заставляет за образами природы искать другой ряд».[481] Мифическая одушевленность заложена с первых строк в глубину смысла, она подспудно движется вторым номером, и тем эффектнее ее как бы персонификация в последней строфе, где разрешаются теза и антитеза двух предыдущих.
Однако логика смысла, характерная для классической манеры Тютчева, не выступает открыто: чаще всего она растворена в пространственных рисунках его лирики. В лирическом пространстве господствует вертикальное измерение. По М. Л. Гаспарову, вертикаль преимущественно направлена «сверху вниз»,[482] по Ю. М. Лотману – «снизу вверх»,[483] хотя эмпирически наблюдаются встречные и перемежающиеся направления, реже – горизонтальные, а также удаления и приближения, смены точек зрения, углов их наклона и т. п. В ВГ1 вертикаль сверху вниз настолько доминирует, что даже тривиальное расположение четверостиший друг под другом подстраивается под рисунок дважды повторенного ниспадения: первый раз – с неба на землю, второй – «с наднебесья» (М. Л. Гаспаров), откуда Геба проливает громокипящий кубок. В то же время к вертикали, остающейся осью текста, прибавляются дополнительные векторы, создающие пространственный объем. Стихотворение начинается риторико-эмфатической фигурой (ст. 1), и взгляд устремляется вверх, навстречу грозовому действу. Небо открыто высью и далью, но его началом. Началом потому, что мотивирует небесную игру и отвечает на нее, а кроме того, является форсмажорным повтором ситуации, так как преизбыток стихий обрушивается сверху вниз еще раз. Следует заметить, что риторическое Ты скажешь вносит дополнительный модус в поэтическую реальность, придавая ей оттенок возможности, вероятности, колеблемости самого «объяснения». Однако это осложнение не ослабляет эстетического натиска стихотворения с его эмфатическим лейтмотивом, звучащим в каждой строфе: весело, радостно, смеясь, – с его музыкой ликующего потрясения.
В заключение аналитического комментария к ВГ1 повторим, что перед нами не описательно-лирический пейзаж. Мы читали стихотворение в жанре «антологической оды»,[484] где лирика смешана с риторикой и монументальной стилистикой. В таком жанре писал поздний Державин и поэты державинской эпохи, но Тютчев усилил лирическую концентрацию до степени классической сжатости, которую можно назвать минимализмом XIX века. ВГ1 не «эскиз к будущему шедевру», не «второстепенное стихотворение», которое не жалко разобрать на черновые и приблизительные наметки. ВГ1 – стилистически завершенное и безукоризненное стихотворение, место которого в каноническом собрании тютчевской лирики. Мы рассмотрели текст, фактически объявленный несуществующим.
* * *Прежде чем перейти к реконструкции поэтических действий Тютчева в процессе переработки ВГ1 в ВГ2, ненадолго задержимся на общих чертах его повторного обращения к собственным текстам, а также на датировке превращения первоначальной редакции во вторую. Вряд ли Тютчев, за редким исключением, сознательно и целенаправленно переделывал свои тексты. Вероятнее всего, что он по разным случаям переписывал или надиктовывал стихотворения по памяти, и, естественно, менял какие-то места. Временные промежутки не имели значения: Тютчев мог воспроизвести свои тексты и поэтические приемы как на близкой дистанции, так и через много лет. Представляется, что лирическое начало работало в тютчевском подсознании непрерывно, там было что-то вроде матричного устройства, которое, в частности, порождало дублетные композиции. У Тютчева, как известно, был довольно ограниченный круг мотивов, но их масштабы и многослойная комбинаторика способствовали их широкоохватному лирическому наполнению. Тютчев похож на шахматиста, играющего сам с собой: фигур сравнительно немного, зато их сочетания безграничны, хотя при этом дебютные ходы и стратегическое развертывание середины игры могут совпадать по общей схеме. Так, лирическая траектория «Проблеска» (1825) повторяется спустя почти 40 лет в стихотворении ad hoc «Как летней иногда порою…» (1863), где такой же нарастающий интонационный подъем, доходя до высшей точки, внезапно падает незадолго до конца. Интервал в 30 лет отделяет раннее стихотворение «Слезы» (1823) от классической ВГ2, в которой Тютчев возобновляет эффектный синтаксический узор: Люблю… когда… как бы, отсутствующий в ВГ1. С другой стороны, рифмическая структура восьмистишия «Поэзия» (1850) предваряет аналогичное построение с далекой рифмой в первой дециме стихотворения «Кончен пир, умолкли хоры…» (1850), написанного почти что рядом. В связи с этим есть соблазн сблизить время превращения ВГ1 в ВГ2, но другие факторы этому препятствуют. В частности, наличие новых мотивов во вписанной Тютчевым второй строфе: дождя, летящей пыли, солнца – заставляет думать о приближении ВГ2 к моменту написания «грозового» стихотворения «Неохотно и несмело…» (1849), скорее всего, позднее этой даты. К дальнейшим мотивировкам мы еще вернемся, а сейчас скажем, что, пожалуй, переделка ВГ1 в ВГ2 не принадлежит к тем редким исключениям, когда Тютчев переписывал вещь, исходя из каких-то установок. Работа шла, как в большинстве случаев у поэтов, в целом спонтанно. Вряд ли Тютчев смог бы внятно ответить, почему он переменил то или иное слово, но мы видим в его действиях целенаправленность и постараемся ее показать. Теперь переходим к гипотетической модели авторской переделки «Весенней грозы».
Ради наглядности нашей реконструкции мы не просто положили рядом два текста, но изобразили их как бы в процессе уже начавшейся переработки:
Весенняя гроза 1 (1829)
Люблю грозу в начале мая:
Как весело весенний гром
Из края до другого края
Грохочет в небе голубом!
Весенняя гроза 2 (1854)
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит ручей проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И говор птиц, и ключ нагорный —
Все вторит радостно громам!
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесого орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Предложенная схема соотнесения двух текстов сама по себе, без дополнительного комментария, отчетливо демонстрирует несколько стадий трансформации одного текста в другой. Тютчев действительно учинил разлом, можно сказать, сцементированной накрепко структуры, вдвинул туда новую строфу, отличную по стилистике, нарушающую логику поэтической мысли и сдвигающую композиционный баланс. Затем он перенес последнюю строфу в обновленный текст без всяких изменений и разбросал по отдельности не нужный более текст. Говорить о причинах столь радикального вмешательства весьма непросто: можно лишь сделать ряд предположений. Возможно, Тютчев решил пересмотреть более внимательно давние тексты (например, «Олегов щит») в связи с намерением Н. В. Сушкова издать сборник его стихотворений. Однако в «Сушковской тетради» «Весенней грозы» нет. Может быть, у поэта всплыл интерес к грозовой теме, и он дважды дублировал ее в стихах этого времени («Неохотно и несмело…» и «Как весел грохот летних бурь…» – 1849, 1851) в чрезвычайно эффектных вариациях. Или он вдруг решил испытать на прочность законченную трехчастную конструкцию и в порядке эксперимента перевести нечетность в четность, уподобляя ВГ2 проработанной им не раз схеме строфической композиции по типу 3 + 1?[485] А может быть, его подзадорило стремление обогатить пейзажными подробностями бережно сохраненную им последнюю строфу? Возможны, конечно, и другие причины.
Перейдем теперь от общего впечатления к частностям и, прежде всего, к рассмотрению внедренной в текст строфы, ставшей второй:
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
Заметнее всего новые мотивы: дождь, летящая пыль, ветер (неназванный), солнце. Восхищает отсутствие туч. Первые три мотива, вместе с «молодыми раскатами», чрезвычайно усиливают динамичность лирического сюжета, педалируя вектор времени и кинетику самой природы. При этом обращает на себя внимание перестановка природных явлений, отмеченная М. Л. Гаспаровым: сначала брызжет дождик, а уже потом летит пыль.[486] А что, если эта инверсия запускает обратное время? Во всяком случае, при участии солнца две последних строки затормаживают разбег стихии или даже приостанавливают его. Здесь великолепно это столкновение полустиший, где прямые называния (за исключением эпитета) контрастируют с прямо-таки барочной и роскошной метафорой: драгоценными перлами и золотыми нитями, в которые превращаются капли и струи дождя. Резкий стилевой слом не только не вредит цельности строфы и смысла, но, напротив, делает и то, и другое многомерным и неисследимым, манифестируя мир в его изменчивости и инертности. В связи с этой мыслью и употреблен выше термин кинетика. Движение сменяется светом, и все это раздельноедино. Поэтическое усилие Тютчева почти достигает до грунта оксюморонности Бытия.