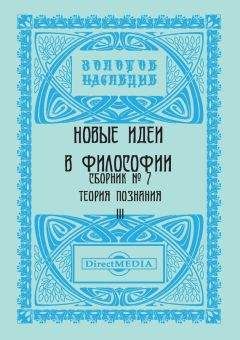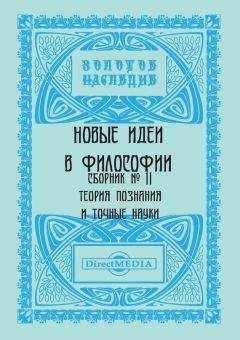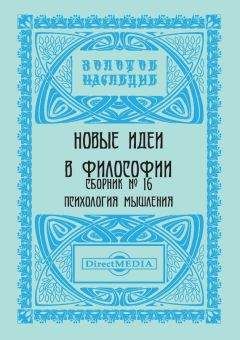Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Получается, что ослепление, которое Беккет считает необходимым условием возвращения в материнское лоно, ведет к сращиванию выделительной и речепроизводной функции. Рот уподобляется анусу — или же вагине; в пользу второго варианта говорит помещенная в том же номере журнала «Докюман» фотография Ж.-А. Буаффара, изображающая широко открытый и наполненный слюной рот. Огромный, висящий над темной сценой, исторгающий бессвязные слова Рот в пьесе Беккета «Не я» кажется буквальной реализацией батаевской идеи.
Слюна кипит, пузырится на губах, растекается по ним аморфной, неконцентрированной массой. Слова, исторгаемые залитым слюной ртом, не могут не быть бессвязными; в одном из прозаических текстов Хармса именно пузыри служат прямой причиной языковой деформации.
Из коробки вышли какие-то пузыри. Хвилищевский на цыпочках удалился из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. «Черт с ней!» — сказал себе Хвилищевский. «Меня не касается, что в ней лежит. В самом деле! Черт с ней!»[500]
Хвилищевскому хочется крикнуть «Не пущу!», но язык как-то подворачивается и выходит «не пустю». Согласно М. Ямпольскому, речь в данном случае как бы имитирует саму форму пузыря, ведь при произнесении звука «у» губы складываются в кружок. «Даже то, что язык „подворачивается“, вводит в движение языка верчение, круг», — продолжает свою мысль исследователь (Ямпольский, 216). Пустота, зияние покрытого пеной рта не может не внушать ужас; так круг, эта «наиболее совершенная», по словам Хармса, фигура, вновь обретает негативные коннотации, связанные с невозможностью назвать то, что выходит за рамки органической жизни.
4. Остановка И/истории
В тридцатые годы в мировоззрении Хармса наступает радикальный перелом: смерть больше не связывается с очищением и мыслится отныне как окончательное возвращение к тому времени, или, точнее, к его отсутствию, когда мир еще не был создан Богом. Но возвращение в небытие невозможно без возврата в материнскую утробу, то есть без уничтожения собственного тела, отмены не только своего собственного рождения, но и рождения мира. «Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением»[501], — написал Хармс в 1933 году в письме к К. Пугачевой. Вскоре мечты о стихах не менее реальных и конкретных, чем предметы объективного мира, уступят место тексту, в котором слова поэта об искусстве, создающем и одновременно отражающем мир, получат новое, трагическое содержание: так возникнет проза, которая не только будет отражать загрязненный мир повседневного существования, но и будет сама генерировать его, стирая грань между реальностью мира и реальностью текста. Писатель оказывается в той ситуации, когда для того, чтобы уничтожить мир, необходимо уничтожить текст. Для того же, чтобы уничтожить текст, писатель вынужден создать текст об уничтожении текста; такой текст об уничтожении текста всю свою жизнь писал Сэмюэль Беккет.
У Хармса тоже есть такой текст-«самоубийца» — это «Голубая тетрадь № 10», открывающая цикл «Случаи». Его герой поразительным образом напоминает Безымянного:
Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно.
Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было.
У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет речь.
Уж лучше мы о нем не будем больше говорить.
(Чинари—2, 330)На самом деле «случаем» данный текст может быть назван с большой натяжкой; напротив, он есть нечто, прямо противоположное «случаю»: в сущности, рассказ начат для того, чтобы как можно скорее его закончить, чтобы больше нечего и не о чем было говорить. Отсутствие персонажа, отсутствие события, «случая», который нужно описывать, дает надежду на прекращение текста, а значит и на достижение покоя небытия. Этой надежде, однако, не суждено осуществиться: размывание повествовательной структуры текста приводит парадоксальным образом не к его смерти, а к тому состоянию, которое Липавский назвал неорганическим существованием: вроде бы уже не о ком больше говорить, герой уже потерял все человеческие черты, но при этом, как ни странно, продолжает существовать. Текст, в котором идет речь о неорганическом существовании, может разрастаться до бесконечности; точно так же и его условно существующий герой превращается в глобальное, всеобъемлющее существо. О подобном разрастании говорит Безымянный:
В описываемый мной момент, то есть в тот момент, когда я принял себя за Махуда[502], я, должно быть, завершал кругосветное путешествие, пути осталось века на два-три, не больше. Мое состояние распада делает это предположение правдоподобным, левую ногу я, возможно, потерял в Тихом океане, безусловно, и никаких «возможно» на этот счет, я потерял ее где-то у берегов Явы, где джунгли заросли красной раффлезией, воняющей падалью, нет, то уже Индийский океан, я — ходячий географический справочник, неважно, где-то там.
(Безымянный, 351)Такое существование бесформенно, о нем можно говорить бесконечно, ничего так и не сказав. Эта перспектива и ужасает Хармса, заставляя его вновь обратиться к «случаям» — второй текст цикла носит именно такое название. Теперь уже писатель рассчитывает не на то, что не о чем будет говорить, а на то, что если уж он вынужден о чем-то рассказывать, то, рассказав, он сможет прекратить повествование.
Фактически персонажи существуют, пока они находятся в поле зрения рассказчика, в противном случае они покидают повествование, или — что еще хуже для них — повествование их исключает, — замечает Ж.-Ф. Жаккар.
(Жаккар, 242)Это было бы так, если бы исчезновение персонажа не влекло за собой рождения нового героя, который настолько похож на предыдущего, что можно говорить об одном и том же персонаже, переходящем из текста в текст. Происходит его «второе рождение», но уже не то, о котором мечтал поэт, и — новое рождение текста, который обещает быть бесконечным, ибо обречен на автоматическое фиксирование повторяющихся событий.
В этом отношении персонажи Хармса напоминают те «несовершенные подарки», о которых он писал в «Трактате более или менее по конспекту Эмерсена». Как и вываливающиеся одна за другой старухи из одноименного «случая» («Вываливающиеся старухи», 1936–1937), несовершенные подарки затягивают нас в мир объектный, в мир причинно-следственных связей. Подарки совершенные, напротив, в силу своей абсолютной неутилитарности, их разрывают. Суть совершенного подарка в том, что он кладет конец неудержимому разрастанию предметов, закосневших в своей грубой материальности. С другой стороны,
всегда совершенными подарками будут украшения голого тела, как то: кольца, браслеты, ожерелья и т. д. (считая, конечно, что имянинник не калека), или такие подарки, как, например, палочка, к одному концу которой приделан деревянный шарик, а к другому концу деревянный кубик.
(Чинари—2, 406)Мотив обнаженности появляется также и во второй части трактата, в которой описывается, как совершенно голый квартуполномоченный окружает себя предметами, цепляющимися один за другой. Неудивительно, что Хармс называет такую систему неправильной; однако
если бы голый квартуполномоченный надел бы на себя кольца и браслеты, окружил бы себя шарами и целлулоидными ящерицами, то потеря одного или двадцати семи предметов не меняла бы сущности дела. Такая система окружения себя предметами — правильная система.
(Чинари—2, 407)Понятно, почему исчезновение одного или нескольких совершенных объектов ничего не меняет: каждый элемент их системы представляет собой нечто автономное, феномен, не зависящий от феноменов, которые его окружают; уничтожение одного из несовершенных объектов нарушает в то же время всю систему.
Ж.-Ф. Жаккар замечает, что, если применить это рассуждение к литературному творчеству, «мы будем иметь дело с восхвалением разрушения традиционных грамматических категорий, которые также представляют собой систему последовательных подчинений, исходящих от разума и препятствующих процессам познания» (Жаккар, 152). На мой взгляд, некоторые особенности хармсовской прозы, и в частности тенденцию к незаконченности текста, нужно рассматривать именно в данном контексте. Действительно, резко обрывая рассказ, Хармс как бы пытается предотвратить разрастание текста, в каждом пункте которого может возникнуть «побочная маленькая система-веточка» (Чинари—2, 406), то есть новый текст, новая история. Трагизм ситуации в том, что, приступив к созданию текста, писатель вовсе не стремится его тут же закончить; напротив, он хочет писать, создавая «чистые», «совершенные» произведения. Правда, речь уже не идет о писании стихов, но все же Хармс не может не поддаться желанию писать, и его рука тянется к перу, чтобы запечатлеть мысли об искусстве, пришедшие писателю в голову. «Однажды я вышел из дома и пошел в Эрмитаж, — записывает он. — Моя голова была полна мыслей об искусстве» (Дневники, 509). Но искусству нет места в мире, где царят глупость и насилие, и текст заканчивается, не успев по-настоящему начаться: