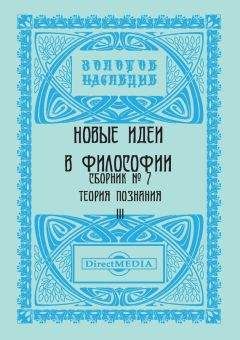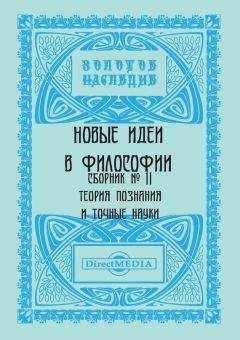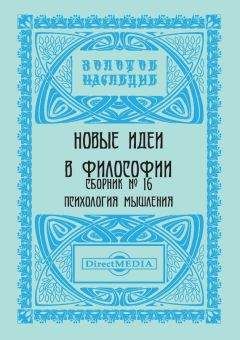Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Ш. Ференци, который дал подробную психоаналитическую интерпретацию эволюционному процессу, замечает, что запах, который источает женский половой орган, действует возбуждающе постольку, поскольку он пробуждает желание вернуться внутрь матки[491]; интерес Хармса к женским половым органам, к их выделениям, напоминающим своей бесструктурностью плазму, к их запаху нужно рассматривать именно в данном контексте[492].
«Гордитесь, вы присутствовали при Противоположном Вращении», — говорит Липавский, хотя, по правде говоря, присутствовать при нем нельзя, можно лишь в нем участвовать, постепенно теряя свою индивидуальность и растворяясь в желеобразной массе неорганического мира. Это растворение, однако, выступает лишь как первый этап алхимического процесса, предполагающий новое рождение из материнского чрева. Примирение враждующих элементов находит свое соответствие в достижении внутренней целостности, проявляющей себя как единство духа-анимуса и души-анимы; по свидетельству Юнга, алхимик XVI века Жерар Дорн, одним из первых признавший психологический аспект алхимического брака, понимал unio mentalis как «психическое уравновешивание противоположностей „в преодолении тела“, состояние покоя, превосходящее эмоциональные и инстинктивные порывы тела»[493]. Вспомним, что у Хармса эпоха Бога Духа Святого есть эпоха покоя и безгрешности. Дух, таким образом, притягивает душу к себе, но, поскольку душа заставляла тело жить, ее отделение от тела, освобождение от власти инстинктов и эмоций мыслится как смерть телесного. «Когда противоположности соединяются, вся энергия исчезает: никакого течения больше нет»[494]. Материнское чрево превращается в могилу. «Да, у меня была бы мать, у меня была бы могила», — мечтает герой «Никчемных текстов». Но тут же вынужден добавить:
Я никогда оттуда бы не вышел, оттуда не выходят, моя могила здесь, моя мать здесь, сегодня вечером это здесь, я умер и рождаюсь, не закончив, не имея возможности начать, такова моя жизнь[495].
Возвращение в материнское лоно грозит еще большей стабилизацией бытия. Конечную точку своего путешествия — материнское чрево — Безымянный описывает следующим образом:
В конце концов я оказался, ничуть этому не удивившись, в строении, как уже говорилось, круглой формы, первый этаж которого занимала единственная комната, напоминающая арену, где я завершал свои обороты, ступая ногой прямо по нераспознаваемым останкам своей семьи, то по чьему-то лицу, то по животу, как придется, погружая в них наконечники костылей, уходя и возвращаясь. Сказать, что это доставляло мне удовольствие, было бы преувеличением, ибо я испытывал скорее раздражение из-за того, что приходится барахтаться в такой грязи именно тогда, когда для завершения пути необходима твердая и ровная опора. Мне приятно думать, даже если это и неправда, что последние дни своего долгого пути я провел на внутренностях мамочки и оттуда же отправился в следующее путешествие. Впрочем, мне все равно, грудь Изольды послужила бы не хуже, или папины половые органы, или сердце одного из моих ублюдков.
(Безымянный, 358)Чтобы умереть, Безымянный нуждается в «твердой и ровной опоре», но его окружает лишь грязь растоптанного до неузнаваемости мира. Беккет называет такое пограничное состояние «зрелым возрастом зародышевой души» (Уотт, 261). Понятно тогда, почему персонаж «Никчемных текстов» говорит, что он хотел бы родиться, чтобы иметь возможность умереть[496]. Оказывается, в достижении состояния твердости, определенности, а значит и чистоты, заинтересован не только Хармс, но и беккетовский герой: одному оно позволило бы одухотворить мир, сохранив его материальность, другому — достичь «реальной», «конкретной» и поэтому «окончательной» смерти. Но там, где рождение и смерть не доведены до конца, не окончательны, надежды на избавление от аморфного, растекшегося бытия остаются иллюзорными[497].
Но, в общем, все это слова, — бредит Безымянный, — о неспособности умереть, жить, родиться, о необходимости терпеть, о пребывании там, где находишься, о смерти, жизни, рождении, о неспособности ни двинуться вперед, ни вернуться, ни знать откуда ты, где находишься, куда движешься, можно ли быть где-нибудь в другом месте, быть иным образом, ничего не предполагая, ни о чем себя не спрашивая, так нельзя, ты здесь, не зная кто, не зная где, все остается там, где находится, ничего не меняется, ни внутри, ни снаружи, по-видимому, по-видимому. И не остается ничего другого, как ждать конца, ничего кроме наступающего конца, и в конце все будет то же самое, в конце, наконец, возможно, все будет прежним, как всегда и было, и можно было только идти к концу, или бежать от него, или ждать его, дрожа или не дрожа, смирившись или не смирившись, с тягостной обязанностью действовать и быть, что одно и то же для того, кто никогда не мог действовать, не мог быть.
(Безымянный, 412)Важно, что существует прямая связь между эволюцией языка и постепенным превращением материи из неорганической в органическую, из жидкой в твердую. Леонид Липавский посвятил процессу образования значений трактат «Теория слов» (1935). Исходная идея трактата — то, что согласные являются «семенами» слов, — заставляет вспомнить о языковых теориях Велимира Хлебникова. «Сколько было согласных, столько образовалось и первых, исходных слов», — утверждает Липавский (Чинари—1, 254). При этом одно из семян слов стало «смыслоутверждающей частицей, как бы всеобщей печатью языка, которая прикладывается ко всем остальным семенам слов и, становясь вторым их слогом, свидетельствует об их зачислении в настоящие слова» (Чинари—1, 255; в русском языке такой частицей, по мнению философа, было «ти»). Если верить Липавскому, история значений насчитывает несколько стадий, которым соответствуют основные мировые элементы: воздух, вода и земная твердь. На первой стадии создаются, за счет преодоления сопротивления воздуха, исходные значения, на второй — они проецируются на жидкость (с тех пор в языке существуют собирательные существительные, безличные выражения и неопределенное наклонение глагола), на третьей — в результате мускульного усилия, необходимого для создания предметов, проекция на жидкость сменилась проекцией на вещи, действия и свойства. Весь процесс в целом Липавский называет «вращением». Для нас особый интерес представляет его вторая, «водяная» стадия, которая характеризуется «густотой, растеканием, течением бурным или спокойным, обволакиванием и захватыванием потоком, выпрыскиванием и т. п.» (Чинари—1, 266). Не случайно, рассуждает Липавский, слова «речь» и «река» являются в русском языке однокоренными; к тому же мы говорим «плавная, текучая речь» и «в течение времени».
При проекции на жидкость еще не существует ни частей речи, ни залогов, ни числа, ни рода. Речь льется как водяной поток, ее основная характеристика — текучесть. Мы помним, что понятие текучести играло важную роль в хармсовской поэтике; но не стоит забывать и о том, что
желание писать текуче отвечает тому же стремлению вернуться к первозданному состоянию языка, ко времени, предшествовавшему делению мира на предметы и действия (части речи) и отношению субъект — объект (грамматические отношения), ко времени без количества, без чисел — к вечности.
(Жаккар, 172)Такой не разделенный пока еще на части мир может быть выражен только с помощью заумного языка, языка, в основе которого — принципиальное неразличение субъекта и объекта речи, говорящего и слушающего. На таком языке изъясняется господин Нотт, такой язык пытались создать русские поэты-заумники, такому языку угрожает, как мы уже убедились, превращение в однородную, вязкую массу. Угроза эта весьма реальна, ведь тот, кто хочет говорить и писать текуче, неизбежно вовлекается в водоворот «противоположного вращения».
Похожая идея содержится в статье «Рот», опубликованной Жоржем Батаем в 1930 году в журнале «Докюман»[498]. В ней Батай противопоставляет вертикальную ось, соединяющую глаза и рот и непосредственно связанную с порождением речи, оси горизонтальной, или биологической, соединяющей рот и анус. Отношения между двумя осями определяются тем, что можно назвать «вращением».
Опускание психической или духовной оси на уровень оси биологической влечет за собой, — разъясняет Р. Краусс, — трансформацию членораздельных звуков в звуки животные, напрямую связанные с выделительной функцией организма; эта трансфермация имеет место тогда, когда человек испытывает чрезвычайно сильное удовольствие или чрезвычайно сильную боль[499].