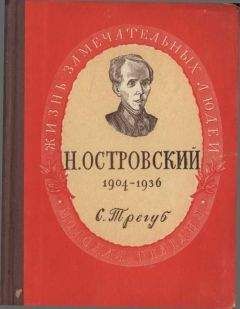Александр Лавров - От Кибирова до Пушкина
В поздние годы, как известно, Сологуб не скупился на резкие эпатирующие характеристики Блока и блоковской поэзии; они приводятся в воспоминаниях Е. Я. Данько, а также в созвучных им записях П. Н. Медведева (1925–1926), например:
8 авг<уста> в связи с вечером памяти Блока[949] много разговоров о нем, на вечере, ночью в поезде и дома у Сологуба.
— Бл<ок> — не русский; в нем тевтонский атавизм. Но он хотел стать русским. Выходило по анекдоту: «Я — кровяной русский. Мы с тобой земляники. — Нет, Фриц, нужно говорить: мы с тобой — землянки…» (Разговор петербургских немцев). Бл<ок> ничего не понимал в России. «Но и такой, моя Россия…» — ведь это же тупик. Достоевский так не сказал бы. Мерзость русскую он знал, и любить Россию такой он не мог. Но за этой мерзостной Россией он знал и видел другую. Бл<ок> этой России не знал. Вообще Бл<ок> ничего не знал. Вот почему он — гениальный, но не великий поэт. Великий — вот что: ты можешь взять любую точку, но с этой точки должен быть точно и ясно виден весь мир, правильная его плоскость и правильный его разрез. Как в аналитической геометрии, верная плоскость. Это было у Пушкина, Шекспира, Данте, Достоевского. Поэтому подлинно великое искусство всегда научно — в духе своем. У Бл<ока> не было ни точности, ни ясности. «И перья страуса склоненные…» — Что, что? — Ничего.
Но Бл<ок> был гениальный поэт. Потому он очаровывает и непосредственно влияет. Его поэзия, когда поразмышляешь, — сладчайший яд. Конечно, яд — отрава. Весь он направлен к смерти. Опустошенная душа, опустошенный гений. Но какой, пленительный…
— Когда я бываю на Смоленском, я захожу на могилу Бл<ока>[950]. Приду, сяду на скамеечку, закурю папироску и всегда читаю А<лександ>ру А<лександрови>чу его «Клеопатру»[951]. Мне кажется, что он слушает и понимает меня. Поэзия Бл<ока> — стимулирует душу. Без этого яда нельзя обойтись. Но опытный доктор дает его в умеренных дозах.
— Лично Бл<ок> был пленителен. Вспоминаю его в ранние годы. Поразительная тевтонская красота. Аполлон. Но лицо — мертвая маска. Холодный, сдержанный, любезный, презрительный, высокомерный. Грубый. Но настоящий человек. Умный[952].
Включение в антологию заведомо не самого важного и зрелого блоковского текста, очевидно, было рассчитано на умаление значения творчества «соперника» — сведение его поэтической миссии к роли сказочника («Я какие хочешь сказки / Расскажу»). Оппозиция «Сологуб — Блок» была разыграна в авторском замысле подобно шахматной партии — посредством соположения двух текстов: «В углу дивана» — «Канон бесстрастия» (ладья, запертая в углу под ударом слона?).
У самого Сологуба стихотворений на тему о «высшем даре», назначении художника, о поисках и способах поэтического самовыражения — «чарах слова» — хватило бы не только на рукописный сборник, но и на самостоятельный том; среди них произведения разного художественного достоинства: и юношеские, напоминающие «вышивку по канве» (подражание классикам), и признанные шедевры.
Даже самый приблизительный, поверхностный перечень стихотворений Сологуба на тему ars poetica выглядит весьма внушительно: «Муза» («Муза — не дева, не резвый ребенок…»), 1880, «Он поэтом рожден. В колыбельку ему…», 1890, «В угрюмой, далекой пещере…», 1892, «Я слагал эти мерные звуки…», 1893, «Мне Муза строгая торжественно сказала…», 1893, «Творчество» («Темницы жизни покидая…»), 1893, «Как ни зовешь ты вдохновенье…», 1895, «Скучная лампа моя зажжена…», 1898, «Мечты о славе! Но зачем…», 1898, «Пока не требует поэта…», 1899, «Поэт, привыкший к нищете…», 1913, «С вами я, и это — праздник, потому что я — поэт…», 1913, «Пьяный поэт» («Мне так надо жить, безумно и вульгарно…»), 1914, «Оттого так прост и ясен…», 1914, «Душа моя, благослови…», 1916, «Стихи, умеете вы литься…», 1916, «Расточитель» («Измотал я безумное тело…»), 1917, «И это небо голубое…», 1918, «Я испытал превратности судеб…», 1919, «В Совдепе» («Муза, как ты истомилась…»), 1920, «Дана поэту в дни страданья…», 1920 (из поэмы «Григорий Казарин»), «Знойно туманится день…», 1920, «Птичка низко над рекою…», 1920, «Трое ко мне устремились…», 1920, «Если замолкнет хотя на минуту…», 1920, «Я вышел из потайной двери…», 1922, «В альбом» («Я не люблю строптивости твоей…»), 1925, «В альбом» («Какое б ни было правительство…»), 1926, «Моя молитва — песнь правдивая…», 1926, «Все новое на старый лад…», 1926, «Змея один лишь раз ужалит…», 1926, «Словами установишь срок…», 1926, «Песню сложишь, в песню вложишь…», 1927, а также многие и многие другие.
В 1920-е годы, в период составления антологии, обращения Сологуба к излюбленной и центральной в его лирике теме становятся все более интенсивными. Обозначенное в «Содержании» стихотворение «Канон бесстрастия» принадлежит к самым значительным сологубовским декларациям зрелой поры. Оно задает систему координат для всех текстов, составивших антологию, соединяя их в единый поэтический метадискурс.
Для прокламации итоговой творческой позиции Сологуб избрал особый жанр — стихотворное послание к поэту, — имеющий богатую традицию в русской лирике, осуществляющий связи между разными поэтическими эпохами и их творцами (нагляднее всего они просматриваются в тематической антологии).
Адресат Сологуба в заглавии не назван и не определен в прямом обращении, как это принято большей частью в стихотворных посланиях, например у Пушкина: «К Батюшкову», «К Дельвигу», «К Жуковскому» и др.; автор не снабдил текст характерным для этого жанра посвящением или эпиграфом. Вместе с тем его послание адресовано не абстрактному, а вполне конкретному собеседнику, хотя прямо и не названному. Как нам представляется, «Канон бесстрастия» был запоздалым откликом на поэтическую декларацию Блока «Жизнь без начала и конца…» из вступления к «Возмездию».
«Пролог» из поэмы, известный Сологубу как самостоятельное произведение еще по первым публикациям (Русское слово. 1914. № 80. 16 апреля; под заглавием «Народ и поэт»; Русская мысль. 1917. № 1), в 1919–1921 годах неоднократно звучал на поэтических вечерах в Петрограде и Москве в авторском исполнении и получил широкое признание в литературных кругах[953]. Гражданский резонанс текста, воспринятого современниками как завещание Блока, был усилен его речью «О назначении поэта», произнесенной в Доме литераторов на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина 10 февраля 1921 года.
Согласно авторской датировке, «Канон бесстрастия» был закончен 9–10 (22–23) мая 1920 года, рукописный сборник «Чары слова» изготовлен 12 января 1921-го, то есть «ответ» Блоку (вероятно, оставшийся ему неизвестным) был готов задолго до 7 августа.
В тексте сологубовского послания содержатся многочисленные переклички с «Прологом», их можно проследить на разных семантических уровнях: идея, жанр, стихотворный размер (оба произведения написаны четырехстопным ямбом, но с разной рифмовкой, определявшей своеобразие мелодики текста; на блоковский «гневный» ямб Сологуб ответил своим — «бесстрастным»). Посредством открытой цитации (ср. у Блока: «Тебе дано бесстрастной мерой / Измерить все, что видишь ты…» и др.), поэт задал посланию полемическую остроту (курсивом выделены метатекстуальные переклички).
КАНОН БЕССТРАСТИЯ
Поэт, ты должен быть бесстрастным,
Как вечно справедливый Бог,
Чтобы не стать рабом напрасных,
Ожесточающих тревог.
Воспой, какую хочешь долю,
Но будь во всем равно суров.
Одну любовь тебе позволю,
Любовь к сплетенью верных слов.
Одною этой страстью занят,
Работай, зная наперёд,
Что жала слов больнее ранят,
Чем жала пчел, дающих мёд.
И муки, и услады слова, —
В них вся безмерность бытия.
Не надо счастия иного.
Вот круг, и в нем вся жизнь твоя.
Что стоны плачущих безмерно
Осиротелых матерей?
Чтоб слово прозвучало верно,
И гнев, и скорбь в себе убей.
Любить, надеяться и верить?
Сквозь дым страстей смотреть на свет?
Иными мерами измерить
Все в жизни должен ты, поэт.
Заставь заплакать, засмеяться,
Но сам не смейся и не плачь.
Суда бессмертного бояться
Должны и жертва, и палач.
Всё ясно только в мире слова,
Вся в слове истина дана,
Все остальное — бред земного,
Бесследно тающего сна.[954]
В «Каноне бесстрастия» Сологуб изложил свой взгляд на поэтическое творчество и назначение художника. Он демонстративно отстранился от позиции Блока и, посредством аллюзий в тексте «Канона…» на пушкинский сонет «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной…», 1830), обосновал status quo. Отнюдь не случайно он включил в проект антологии именно это стихотворение Пушкина, а блоковскому «Прологу» предпочел «В углу дивана». В составленной таким образом картине русской поэзии он объявил себя непосредственным преемником Пушкина.