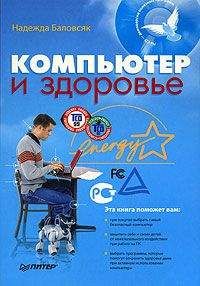Герхард Менцель - Годы в Вольфенбюттеле. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера
Он высоко чтит Гердера. Позже в «Письме о философии» и в «Приготовительной школе эстетики» он сложит гимн в его честь, а его «Идеи к философии истории человечества» — последнее, что он читал на смертном одре. С восемнадцати лет он читал Гердера с возрастающей пользой. «Его произведения были для меня прохладными родниками в пустыне Гофа», — пишет он Кальб. Гердеровская идея счастья, конечно, оказала влияние на «Вуца». Письменная похвала супругов Гердер ободрила его. Гердер был одним из немногих, кто знал и ценил его ранние сатиры. С Гердером его политически объединял демократизм, морально — строгое понимание добродетели. Но это же отделяло его от Гёте, который, вступив в классицистский период своего творчества, отошел от своего прежнего вдохновителя.
Раздор между Гердером и обоими классиками стал явным еще до посещения Жан-Полем Веймара. Его причиной был выход Гердера из состава сотрудников журнала «Оры». Шиллер, издатель журнала, отклонил одну статью Гердера, обосновав это тем, что в ней утверждается, будто поэзия должна вырастать из жизни, из времени, из реального, между тем как поэт должен быть верен идеалам Древней Греции, поскольку «действительность только запачкает» его. После этого Гердер ушел из редакции. Он отвергал гётевский и шиллеровский окрашенный античностью культ формы и ратовал за искусство, подчиняющееся гуманным, нравственным целям. Он справедливо видел в Жан-Поле союзника, и когда превозносил его как новую величину в литературе, то делал это не без намерения противопоставить его Гёте и Шиллеру. «Ваши сочинения, — пишет Каролина Гердер Жан-Полю, — необходимо именно сейчас распространять как можно шире. Господство наглости и высокомерия возносится и распространяется беспредельно. Антихрист явился теперь в наикрасивейшей форме, в шиллеровском „Альманахе Муз“».
Конечно, у всего этого есть и политическая подоплека, которая редко выражалась в словах. Симпатия Гердера к Французской революции повредила его репутации при дворе. Когда спустя несколько лет Каролина Гердер ходатайствовала через Гёте об обещанном герцогом пособии на воспитание детей, Гёте ответил оскорбительными для Гердеров письмами, упрекая их за демократические взгляды. «Мне жаль вас, вам приходится искать поддержки у людей, которых вы не любите и едва ли цените, чье существование вас не радует и содействовать чьему благу вы не расположены… Разумеется, куда удобнее заявлять о своих правах, когда крайность заставит, а не стараться всей жизнью, всем своим поведением заслужить то, за что однажды настанет время вознести благодарность».
Если в письмах Жан-Поля к Отто к описаниям его веймарского счастья примешивается разочарование по поводу литературных знаменитостей, то оно, безусловно, связано и с той мелочностью, с какой великие часто ведут свои споры. Они очень чувствительны к критике. Когда речь идет об их собственных произведениях, они теряют всякую терпимость. Поскольку их произведения — воплощение их личности, они все воспринимают в личном плане. И поскольку за мелочами часто скрыты решающие различия во взглядах, то хоть это и понятно, но для пришедшего со стороны Жан-Поля мало привлекательно.
Гердер брюзжит по поводу всего, что исходит из дома Гёте. «Все эти Марианны и Филины, вся их толчея мне ненавистны», — говорит он о «Вильгельме Мейстере», которого считает пустым и безнравственным. При каждом удобном случае он упрекает Гёте в безбожии и аморальности. Он не признает значения больших баллад Гёте. Когда в журнале «Оры» появляются «Римские элегии», он предлагает переименовать его в «Хуры»[25].
Но и Гёте в последнем разговоре с Гердером, после того как Жан-Поль окончательно покинул Веймар, проявляет сверхчувствительность в гротескной форме. Гёте поведал об этом событии потомкам в «Тетрадях дней и годов». В мае 1803 года он записывает: «Уже три года, как я отдалился от него (Гердера), ибо с болезнью у него усилился недоброжелательный дух противоречия, заглушая его бесценный и неповторимый дар любви и любезности. Приходя к нему, наслаждаешься его мягкостью; уходишь от него оскорбленным. После спектакля „Евгения“ („Внебрачная дочь“) Гердер, как мне передавали, высказался самым благосклонным образом… я мог надеяться на возобновление близости с ним, из-за чего пьеса стала бы мне дорога вдвойне. Для этого представилась и ближайшая возможность. Это было в то время, когда я находился в Йене… мы жили во дворце под одной кровлей и обменивались доброжелательными визитами. Однажды вечером он посетил меня и стал в словах, полных спокойствия и чистоты, хвалить названную пьесу… Однако эта истинная, прекрасная радость длилась недолго, ибо под конец он, хотя и в шутливой форме, выбросил отвратительный козырь, чем рассудочно уничтожил, по крайней мере на тот миг, все в целом. Человек разумный поймет, что это возможно, но ощутит вместе со мной ужасное чувство, меня охватившее; я поглядел на него, ничего не отвечая, ужаснувшись, что это и есть пугающий символ наших многолетних отношений. Вот так мы и расстались, и я его больше никогда не видел».
Эта трагически окрашенная сцена оборачивается, к сожалению, комизмом, когда узнаешь, в чем заключался отвратительный козырь, который так ужаснул Гёте: то был не очень-то тактичный, но дружелюбный намек на внебрачного сына Гёте. Еще больше, чем «Внебрачная дочь», сказал Гердер, ему нравится внебрачный сын Гёте.
Не удивительно, что такие распри между литераторами, теснящимися на крохотном пространстве, зависящими от одних и тех же меценатов, пугают добросердечного юношу из Гофа, его реакция на это истинно жан-полевская: «Теперь я не стану робко склоняться перед великими людьми, а только перед самыми добродетельными». Следующая фраза — она идет без абзаца — поясняет, кого он при этом не имеет в виду: «Все-таки я со страхом пришел к Гёте».
Видно, что партия Кальб — Гердер его уже подготовила: Гёте не добродетелен, лишен истинных чувств, холоден к людям, его интересует только искусство. Шарлотта, опасаясь чуждого влияния на своего подопечного, советует ему тоже проявить холодность. «Я пошел без тепла, только из любопытства. Его дом ошеломляет, это единственный в Веймаре дом в итальянском вкусе, а какие лестницы! Это пантеон, полный картин и статуй, в груди возникает холодок страха; наконец появляется бог, холодный, немногословный, невозмутимый. Кнебель говорит, например: французы вступают в Рим. Гм! — говорит бог. Его облик энергичен и страстен, глаза светятся (хотя они и не очень приятного цвета). Но разогрело его наконец не только шампанское, а разговоры об искусстве, о публике и т. д., и мы сразу же оказались — у Гёте. Он говорит не так красочно и стремительно, как Гердер, но остро — решительно и спокойно. Напоследок он прочитал нам… неопубликованное изумительное стихотворение, огонь его сердца пробился сквозь ледяную кору, и он даже пожал руку… исполненному энтузиазма Жан-Полю. Прощаясь, он снова это сделал и пригласил меня прийти опять. Он считает свой поэтический путь законченным. Клянусь небом, мы ведь хотим любить друг друга. Остгейм сказала, что он никогда не проявляет признаков любви. Я должен рассказать тебе о нем сто тысяч вещей. И жрет он ужасно. А одет с тончайшим вкусом».
Несмотря на предубеждения, которые ему внушали, несмотря также на чопорность Гёте, сближение кажется ему еще возможным. Так же кажется и Гёте, пославшему в прошлом году «Геспера» Шиллеру, который назвал его «великолепным субъектом», с воображением и причудами; это «веселое чтение для длинных ночей», только, к сожалению, типичный «козлотур» — помесь козла с туром, — лишенный единства, бесформенный. В ответ на это Гёте написал: «Мне приятно, что новый козлотур Вам не совсем противен; жаль этого человека, он как будто живет очень изолированно и потому не может, обладая многими хорошими качествами, облагородить свой вкус. К сожалению, кажется, лучшее общество, в каком он вращается, — это он сам». Позже он заговорил о большом успехе книги и выразил надежду, «что бедняга в Гофе в эти грустные зимние дни получает от этого хоть какое-то удовольствие», в ответ на что Шиллер упрекнул читающую публику в неразборчивости, потому что одновременно с Жан-Полем она любит самое дешевое развлекательное чтиво, например романы Лафонтена, — а это ведь могло свидетельствовать только о положительном отношении Шиллера к Жан-Полю.
Тогда речь шла о книге; но вот приходит автор — сперва к Гёте, который рекомендует его Шиллеру: «Он посетит Вас вместе с Кнебелями и, несомненно, понравится Вам». Он называет его «сложным существом», с которым происходит то же, что и с его книгами: «Одни ценят его слишком высоко, другие слишком низко, и никто не знает, как по-настоящему подойти к этому странному существу». То же считает и Шиллер: «Странен, как человек, который упал с луны, полный доброй воли и искренне склонный видеть вещи вокруг себя, но только не тем органом, который создан для зрения». Гёте в заключение намекает, в чем для них суть дела: им нужен союзник. «Его правдолюбие и желание что-то воспринять расположили к нему и меня. Но этот общительный человек представляет собой разновидность человека теоретического склада, и если хорошенько подумать, то я сомневаюсь, чтобы в практическом смысле Рихтер когда-нибудь приблизился к нам, хотя в теоретической сфере он как будто имеет большую склонность к нам».