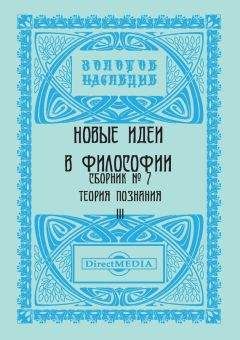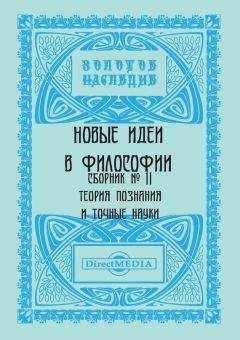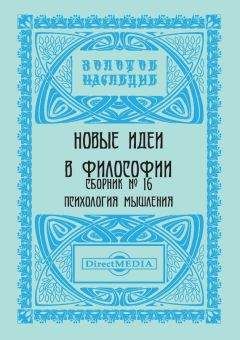Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Старуха, ткущая пряжу, — вряд ли можно придумать более удачный образ, чтобы отразить остановившееся время. Пряжа похожа на длинные женские волосы, стоит их обрезать, и мир воспрянет ото сна[455]. Но еще больше пряжа похожа на растение.
Как растение, она не имеет центра и бесконечна, неограниченно продолжаема. В ней есть скука, и время, не заполненное ничем, и общая, родовая жизнь, которая ветвится и ветвится неизвестно зачем; когда ее начинаешь вспоминать, не знаешь, была она или нет, она протекла между пальцев, прошла, как бесконечный миг, как сон, вспоминать нечего.
(Чинари—1, 80)Что касается слухового оконца, то у Беккета нетрудно найти много его аналогов: окошко, в которое смотрит прикованный к своей постели Мэлон, два окна, выходящие соответственно на море и на сушу, в «Эндшпиле», окно, висящее в пустоте между небом и морем, в «Скале». Везде оно символизирует границу между жизнью и смертью, временем и безвременьем, словом и молчанием. Точно такую же функцию разрыва, провала, паузы выполняет окно в текстах Хармса[456].
Трава — волосы — пряжа — паутина: такой ассоциативный ряд выстраивает Липавский. Кстати, герой «Никчемных текстов» тоже запутался в паутине, полной дохлых мух[457]. Паутина накрывает собой мир, погружая его в «обморок, в безвременный сон» (Чинари—1, 81); мир начинает жить безличной, разлитой, неконцентрированной жизнью, которая не может не вызывать страх. Это страх консистенции, объясняет Липавский, но также и страх формы, ибо для разлитой жизни характерна, как правило, особая пространственная форма — форма пузыря. Часто ей сопутствуют еще две формы: отростки и сегменты. Различные сочетания этих форм ведут к возникновению таких жизненных форм, как
паук, клоп, вошь, осьминог (пузырь + отростки ног); жаба, лягушка (пузырь), гусеница (пузырь, сегменты, отростки); краб, рак (сегменты, отростки); многоножки, скалапендры (сегменты, отростки).
(Чинари—1, 85)Липавский сравнивает их с женской грудью, животом и задом: и там и здесь одинаковая «непрактичность», «неспециализированность» жизни.
Пауки и другие насекомые неприятны также своей многоногостью, добавляет философ:
Особенно неприятно, когда эти ноги начинают двигаться, животное как бы кишит ногами. Тут соединяются впечатления кольч<а>тости, множества симметричных отростков и колыхательного движения. Быстрота перебирания ножек не позволяет различить отдельных шагов, туловище при этом остается как бы не участвующим в движении, получается какой-то ровный, автоматический ход.
(Чинари—1, 86–87)Именно так передвигаются Уотт и Сэм, когда оказываются зажатыми между двумя оградами в психиатрической лечебнице: обнявшись, они образуют единое существо о четырех ногах, постоянно меняющее направление движения, что приводит практически к топтанию на месте.
Ровен, впрочем, только сам ход, в противоположность, скажем, ходу лошади или человека, — продолжает свою мысль Липавский, — остановки же, пускание в ход и перемены направления получаются, благодаря обилию ног, наоборот, необычайно резкими, судорожными, мгновенными. Получается дергающийся бег с внезапными паузами и зигзагами; такой, например, у крабов.
(Чинари—1, 87)У человека из Люксембургского сада («Тошнота») в голове «шевелятся мысли краба или лангуста»; Моллой, передвигающийся на своих костылях, напоминает краба физически:
Я лежал ничком, костыли служили мне абордажными крючьями. Изо всех сил я метал их вперед, в подлесок, и когда чувствовал, что они зацепились, подтягивался на кистях.
(Моллой, 97)Судорожный характер бега присущ и мышам и крысам.
Мышь бегает как заводная. И боятся именно бегущей, мечущейся мыши или крысы. Достаточно вообразить, что у мыши иные ноги, что она ходит как другие, более крупные животные, — и все, что есть в ней неприятного, пропадает.
(Чинари—1, 87)Беккетовскому герою мыши и особенно крысы симпатичны: он и сам передвигается, да и объясняется, судорожными рывками. Сэм и Уотт кормят водяных крыс прямо с рук, в их присутствии они чувствуют себя ближе всего к Богу (Уотт, 160). Последнее не должно удивлять: крыса — это материализация бесформенного[458], а Бог Беккета — Бог абсурдный, не имеющий, как сказал бы Хармс, никакой «определенной фигуры»[459].
Александр Введенский тоже писал о мышах, причем в сугубо положительном контексте.
Если с часов стереть цифры, если забыть ложные названия, — рассуждает он, — то уже, может быть, время захочет показать нам свое тихое туловище, себя во весь рост. Пускай бегает мышь по камню. Считай только каждый ее шаг. Забудь только слово каждый, забудь только слово шаг. Тогда каждый ее шаг покажется новым движением. Потом, так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого, что ты называл ошибочно шагом (ты путал движение и время с пространством, ты неверно накладывал их друг на друга), то движение у тебя начнет дробиться, оно придет почти к нулю. Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь).
(Чинари—1, 544)Введенский явным образом основывается здесь на идее Друскина о том, что достичь вечности можно за счет «вырывания» отдельного мгновения из ряда подобных ему: тогда каждое мгновение будет вмещать в себя все богатство «чистого» мира. Друскин и Введенский не предусмотрели, однако, одной вещи: разрушение временной структуры может привести к стабилизации бытия, движение перестанет быть линеарным, но при этом станет судорожным, конвульсивным, как у мыши, или же колыхательным, как у змеи[460]. Друскин говорил, что скука появляется тогда, когда мы связываем мгновения между собой; но ведь безличная, родовая, растительная жизнь тоже скучна, она протекает между пальцев, как сон, как «бесконечный миг». Растения тем и отличаются от животных, говорит Липавский, что «для них нет времени: все для них протекает в единый бесконечный миг, как глоток, как звук камертона» (Чинари—1, 81). Такая жизнь не имеет центра, вот почему, кстати, беккетовский Безымянный все время пытается установить, находится ли он в центре или нет.
Симптоматично, что Безымянный постепенно обретает форму говорящего шара, наполненного слизью:
Да, я поистине купаюсь в слезах, — утверждает он, чтобы тут же опровергнуть свое утверждение. — Они собираются в моей бороде, и оттуда, когда ее переполняют, — нет, никакой бороды у меня нет, и волос тоже нет, большой гладкий шар на плечах, лишенный подробностей, не считая глаз, от которых остались одни глазницы. И если бы не слабые свидетельства ладоней и подошв, отвести которые до сих пор не удалось, я бы с удовольствием решил, что по форме, а возможно и по содержанию, я представляю собой яйцо, с двумя отверстиями, расположение которых не важно, чтобы не дать ему лопнуть, ибо его содержимое жидкое, как слизь.
(Безымянный, 336)Вообще, шарообразность, или, как говорит Липавский, «пузырчатость», является основной формой живой консистенции.
Но она обычно недостижима из-за неравномерности окружающей среды (земное тяготение, пограничность земли и воздуха, движение вперед). В соответствии со всем этим пузырчатость превращается в то, что можно назвать «обтекаемостью». Но всюду, где живая ткань остается непрактичной, неспециализированной и верной себе, она приближается к форме пузыря. И там, как известно, она наиболее эротична.
Страх перед пузырчатостью не ложен. В ней действительно видна безындивидуальность жизни. Размножение и состоит в том, что в пузырьке появляется перетяжка и от него обособляется новый пузырек.
(Чинари—1, 85)Там, где находится Безымянный, земное тяготение уже не действует, между воздухом и землей нет четкой границы, а движение превратилось в стазис. Будучи шаром, наполненным слизью, Безымянный в принципе обладает способностью размножаться, исторгая из себя такие же бесскелетные организмы, как и он сам. Стоит добавить, что неконцентрированной жизни должны соответствовать, по мысли Липавского, «специфические звуки: хлюпанье, глотанье, засасывание, — словом, звуки, вызываемые разрежением и сдавливанием» (Чинари—1, 84–85). Действительно, слово «высасывание» дважды встречается в беккетовских текстах: в пьесе «Счастливые дни» и радиопьесе «Зола». Персонажи этих произведений как бы «высосаны» бытием-в-себе, безындивидуальной, «темной» жизнью.
Кровь, которая покидает тело, также живет безличной жизнью:
Медленно выходя из плена, кровь начинает свою исконно, уже чуждую нас, безличную жизнь, такую же, как деревья или трава, — красное растение среди зеленых.