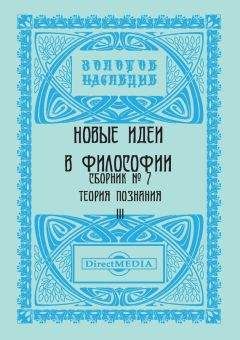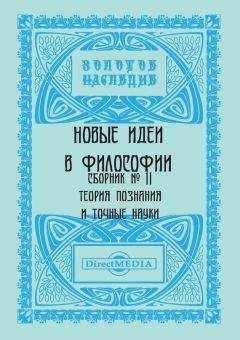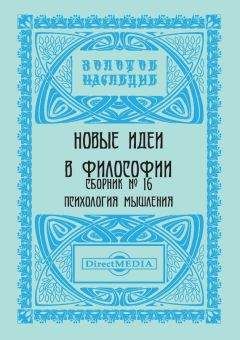Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Именно застывшая текучесть (fluidité) вязкого таит в себе главную опасность для бытия-для-себя, то есть человеческой экзистенции; вязкое — это реванш бытия-в-себе, окружающего и отрицающего нас самодостаточного мира. Многие мыслители, отмечает Сартр, сравнивали текучесть воды с текучестью сознания (в том числе и Бергсон, повлиявший как на Туфанова, так и на Хармса); но ужаснее всего для сознания — это стать вязким. «Ужас вязкого в том, что время может остановиться <…>»[441]. Аморфная, вязкая масса, абсурдная в своей самодостаточности, — таким видит мир Рокантен. В существовании этого мира нет ни малейшего смысла, но он не может не существовать.
Любопытно, что особую роль в осознании героем абсурдности существования играют деревья: наблюдая за ними, Рокантен надеется увидеть, как движение возникает из небытия, как рождается существование, но его ждет разочарование:
На концах веток роились существования, они непрерывно обновлялись, но они не рождались никогда.
(Сартр, 135; курсив мой[442])Закономерно, что вязкость мира-в-себе неразрывно связана для Сартра с сексуальностью:
Неужели я буду?.. ласкать на расцветшей белизне простыней белую расцветшую плоть, которая тихо клонится навзничь, — с ужасом думает Рокантен, — буду касаться цветущей влаги подмышек, жидкостей, соков, цветения плоти, проникать в чужое существование, в красную слизистую оболочку, в душный, нежный, нежный запах существования и буду чувствовать, что я существую между мягких, увлажненных губ, губ красных от бледной крови, трепещущих губ, разверстых губ, пропитанных влагой существования, увлажненных светлым гноем, буду чувствовать, что я существую между сладких, влажных губ, слезящихся, как глаза?
(Сартр, 107)[443].Характерно, что при чтении такого типичного для заумной поэзии стихотворения, как «Sôol’af» («Весна») Александра Туфанова, стихотворения, целиком составленного из нечленораздельных звуков, возникает именно ощущение упругой, расплывчатой неорганической массы. Туфанов в своих поисках стремился приписать каждому звуку специфическую функцию: «вызывать определенные ощущения движения». Однако при такого рода движении происходит, как говорит Липавский,
смазывание его очертаний — от незаметного до такого, когда предмет превращается в мутную серую полосу. Это смазывание очертаний предмета происходит от того, что мы не успеваем фиксировать его точно, крепко держать его глазами.
(Чинари—1, 91)Отсюда, как реакция на потерю предметами стабильности, и возникает знакомое официанту из «Нади» состояние головокружения:
Головокружение и состоит в ослаблении, колебании фиксации, смазывании очертаний, которое и создает ощущение движения, хотя самого характерного и необходимого для ощущения движения налицо нет, — «неподвижное движение». Почти то же ощущение можно получить, глядя на отражение в текучей воде: тут тоже смазывание очертаний без перемещения их.
(Чинари—1, 91; курсив мой[444]).В результате мы наблюдаем растекание мира, получившее свое выражение в заумной поэзии:
Мир был зажат в кулак, но пальцы обессилели, и мир, прежде сжатый в твердый комок, пополз, потек, стал растекаться и терять определенность.
(Чинари—1, 92)Неприязнь к открытым сплошным пространствам, объясняет Липавский, напрямую связана с «боязнью безындивидуальности»: человека пугают однообразные водные или снежные пустыни, большие оголенные горы, степи без цветов, синее или белое небо, слишком насыщенный солнцем пейзаж (Чинари—1, 79). Беккет как будто иллюстрирует данное положение, помещая своих героев то на голую равнину («В ожидании Годо»), то на берег бескрайнего моря («Зола»), то на скалу где-то между небом и морем («Скала»). Здесь не определить направление движения, а понятия «лева» и «права», севера и юга становятся лишь повествовательными фикциями:
Небо, о нем… небо и земля, о них я много слышал, — говорит герой «Никчемных текстов», — это действительно так, я ничего не придумываю. Я записал, вынужден был записать множество историй, в которых они играли роль декораций, создавали атмосферу. Они смыкаются вокруг героя, образуя большой разрыв в том самом месте, где он находится, так что он как будто накрыт колпаком, имея возможность перемещаться до бесконечности во всех направлениях, умный поймет, это не входит в мою компетенцию[445].
«Время стало пространством»[446], — говорится в другом «никчемном» тексте, но если пространство бесконечно и не поддается оценке, то таким же неопределимым становится и время. Время движется, но не вперед, а на месте, «что-то идет своим чередом» (Театр, 140), но никогда не достигает финальной точки: это феномен «неподвижного движения», о котором упоминал Липавский. Наступает «время Никогда»[447], время остановленного мгновения.
Я в углублении, которое вырыли века непогоды, я лежу лицом вниз на коричневатой земле со стоячей, медленно впитывающейся, шафранного цвета водой[448], — констатирует беккетовский персонаж.
«Это сплошная вода, которая смыкается над головой как камень», — добавил бы Леонид Липавский (Чинари—1, 79). Стоячая вода растворяет время, выбраться из нее почти невозможно: «<…> пока что я здесь, извечно, навсегда»[449], — вынужден признать рассказчик «Никчемных текстов». Он балансирует на границе жизни и смерти и, чтобы преодолеть ее, пытается «заговорить в будущем времени» и вновь запустить тем самым часовой механизм. Однако он терпит неудачу, и ему ничего не остается, как вернуться к прошедшему времени. Там, где больше нет будущего, но только прошедшее, ставшее настоящим, попытка самоубийства оборачивается лишь бесконечным погружением в трясину остановившегося времени[450]. Чей-то голос повторяет в бреду:
Кто, это не кто-то, нет никого, есть только голос безо рта и где-то есть ухо, что-то должно слышать, и где-то есть рука, он называет это рукой, он хочет сделать руку, ну, хотя бы что-то, где-то, что оставляло бы следы, того, что происходит, того, что говорится, это самый минимум, нет, это похоже на роман, опять на роман, есть только голос, шелестящий и оставляющий следы[451].
2. Уснувшее царство
Во втором «никчемном тексте» можно найти понятие, отсылающее к чинарскому «остановленному мгновению»: это «огромная секунда» застывшего «сейчас», которая заставляет беккетовского героя вспомнить о рае, ведь в раю времени нет. К вечности райского бытия стремился Хармс, но Беккета эта вечность ужасает: для него истинный рай — абсолютная пустота и тишина бесконечного несуществования. Как я уже неоднократно отмечал, во второй половине тридцатых годов взгляды Хармса претерпевают радикальную трансформацию и становятся все более похожими на взгляды Беккета: теперь русский поэт боится вечности, и источник этого страха как раз в способности существования стабилизироваться, застывать, превращаться в неорганическую массу. «Огромная секунда» не имеет границ, и ее безграничность разрушительным образом воздействует на сознание человека: мыслительный процесс замедляется, то же самое происходит и со словами, «существительное умирает, прежде чем достигнет глагола»[452]. Дискурс «магматизируется», постоянно возвращаясь к исходной точке; Беккет называет это «пережевыванием» («Шаги»). «Невозможно иметь тело в виде каши и сознание с ободранной кожей, как во времена невинности»[453], — жалуется Мерсье. Персонаж более поздних текстов чувствует, как его тело теряет привычные очертания, а сознание уступает натиску бессознательного; он возвращается в состояние невинности, но трансформировать его в небытие оказывается еще более трудным делом, чем избавиться от рутины каждодневного существования.
Липавский вспоминает в своем «Исследовании ужаса» старую сказку об уснувшем царстве.
Помните, там даже часы останавливаются, слуга застывает на ходу, протянув ногу вперед, с блюдом в одной руке. И тотчас же из-под земли подымаются деревья, вырастают травы, длинные, как волосы, и точно зеленой паутиной или пряжей застилают все вокруг. Да, там еще чердак со слуховым оконцем, злая старуха за пряжей и спящая красавица: она заснула, потому что укололась и капелька крови вытекла из ее пальца[454].
(Чинари—1, 80)Старуха, ткущая пряжу, — вряд ли можно придумать более удачный образ, чтобы отразить остановившееся время. Пряжа похожа на длинные женские волосы, стоит их обрезать, и мир воспрянет ото сна[455]. Но еще больше пряжа похожа на растение.