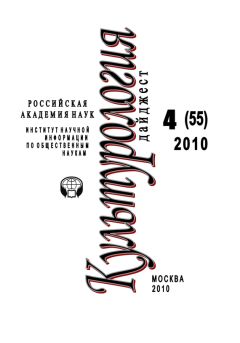Ирина Галинская - Культурология: Дайджест №2 / 2010
Авторы «Лао-цзы» и «Чжуан-цзы» предлагают альтернативный «путь», т.е. такую иерархию ценностей, в которой высшую ступень занимает даже не эстетика, а то, что ей предшествует – созерцание образов целостно-добытийного, непроявленного. С точки зрения контрклассики, культивирующей искусство нисхождения к истоку пространства-времени, за которым вещи, возможно, пребывают вечно как прообразы, временные ценности мира оказываются полностью девальвированными из-за их заведомой раздвоенности, нецелостности, ущербности.
Целостность дао нарушается уже в самом начале, когда «одно родило двоицу», возникли оппозиции, первоначальный образ утрачен, пошло время, ведущее к смерти-возвращению, поскольку все проявившееся идет к своему концу.
Ведь явленное и неявленное появляются одновременно;
Трудное и легкое зависят одно от другого;
Длинное и короткое соизмеряются друг с другом;
Высокое и низкое видны в соотношении;
Первый и второй голос [могут быть определены] как
согласие-гармония, [только] если прозвучат оба;
Что было раньше, что стало потом, – можно узнать,
лишь сопоставив. (Цит. по: с. 333).
Разделение онтологической целостности Хуньдуня/Паньгу на небо и землю, инь и ян, знаменует начало космической катастрофы: ее симптомами для Владыки Центра из «Чжуан-цзы» были появившиеся в его первоначально-целостном теле отверстия, органы, члены, части. Разделение первоначальной целостности на этическом уровне привело к образованию понятий о добре и зле, на эстетическом – прекрасного и безобразного. Для появления в мире зла-уродства необходимо, чтобы в нем появилась благо-красота. Поэтому с точки зрения контрклассики лучше отказаться от призрачной красоты-блага, чем примириться с украшательством подлинной человеческой натуры музыкой-танцем при жертвоприношении, фальшивыми жестами, продиктованными страхом перед наказаниями или чаянием награды, – всеми этими жалкими ширмами, с помощью которых пытаются прикрыть природную нищету и немощь тела и души.
Контрклассика полагала, что истинный путь к первоначальному – к подлинной человечности – лежит через отказ от очарованности внешним: мишурой вещей и событий.
Познавший отчужденность-отрешенность от жизни, способен стать ясным. Став ясным, как утро, способен увидеть Единое. Увидев же Единое, способен забыть о прошлом и настоящем, вступить туда, где нет ни жизни, ни смерти (цит. по: с. 334).
Прошедший указанным контрклассикой путем, достигает области, предшествующей в пространственно-временном отношении первозвуку и первосвету, где нет изменений, следовательно, – начала и конца. Не случайно имя предполагаемого автора важнейшего для контрклассики текста – Лао-цзы – может быть истолковано как Старый Младенец или даже – Вечный Зародыш. Нужно вернуться к себе изначальному, чтобы обрести высшую награду «мастера» – Черную Жемчужину искусства, о которой говорит в «Чжуан-цзы» Желтый Предок / Хуанди:
Прогуливаясь к северу от [реки]Чишуй / Красной, Хуанди / Желтый Предок поднялся на вершину горы Куньлунь, а возвращаясь, загляделся на юг и потерял свою Черную Жемчужину / Сюань Чжу. Он послал Знание / Чжи отыскать ее, но оно не нашло; послал Зоркого / Ли Чжу, но и тот не нашел; послал Красноречивого / Чигоу, и тот не нашел; послал Все Забывающего / Сянвана, и Сянван отыскал.
– Удивительно, – воскликнул Желтый Предок, – что нашел ее тот, кто все теряет! (Цит. по: с. 334).
Опыт «мастера», возвращающегося к самому себе, – внутренний. Это медитативное постижение неведомой реальности есть прежде всего путь-искусство самоуглубления и самопознания. Даже учитель не в состоянии передать опыт жизни ученику, к тому же, переданный, такой опыт все равно оказался бы лишенным всякой ценности – репродукцией, а не подлинником. Как во всяком искусстве, слово, повторенное дважды, перестает здесь быть настоящим именем того, что названо, и только уникальный путь признается истинным.
Путь «мастера» – это возвращение к той пространственно-временной точке, где впервые появляются из хаоса нерасчлененных ощущений образы-воспоминания: голос, запах, цвет. Предшествующее этому первому проблеску сознания младенческое или внутриутробное беспамятство-блаженство и есть искомое состояние, к которому он стремится, повинуясь внутреннему, возможно врожденному, импульсу. Это состояние полной гармонии со средой – вновь обретенное ощущение безопасности, безмятежности, цельности:
Постигший глубину мастерства
Уподобляется новорожденному.
Осы и ядовитые змеи такого не жалят,
Дикие звери – не кусают,
Хищные птицы – не когтят.
……………………………………
Он предельно гармоничен. (Цит. по: с. 335).
В этом младенчески-эмбриональном состоянии и заключен конечный смысл дао-искусства контрклассики. Погружение в такое состояние предполагает решительный разрыв со всем исчисленным, классифицированным, в том числе – с принятой эстетической системой. Для древности это – пятитоновая музыка, пятицветный орнамент, пятивкусовая кухня, от них нужно освободить сознание, чтобы дать место непосредственному опыту: «Хочешь стать мастером – смотри на то, что в тебе, а не на то, что видит глаз. Отрешись от внешнего и прилепись к внутреннему» (цит. по: с. 336).
Смотрение на то, что не имеет видимого образа,
назову созерцанием.
Слушание того, что не имеет звукового образа,
назову вслушиванием.
Ощущение того, что не имеет осязаемой формы,
назову вчувствованием.
Выразить эти три [состояния] одним словом не могу,
поэтому называю их одновременный приход – Единением.
Высшее состояние [Единения] – когда исчезают образы
[этого]мира, низшее – когда пропадают [чувственные]
ощущения.
Этому продолжительному Пребыванию нельзя найти и названия,
разве что сказать: возвращение к Первоначальному. <…>
Это и есть Путь – владея вечным, он управляет временным.
Способного узреть начало вечного назову Мастером. (Цит. по: с. 336).
Однако этот путь неизбежно обрекает «мастера» на одиночество. Уже в «Лао-цзы» «мастер» противопоставлен всему «человеческому» как жесткопрямоугольному, не оставляющему места непредсказуемому:
Подлинно «правильное» – не прямоугольно,
Подлинно ценному долго созревать,
Великая мелодия звучит только в душе,
Великий образ не имеет внешнего
представления…
Путь сокровенен и безымянен…(Цит. по: с. 336).
Путь повсюду, но даже тот, кто посвятит жизнь его поискам, Пути не найдет. Он рядом, но его нет, он мучительно недоступен уму, и в этом – одно из основных причин отказа от признания реальности реальностью, к которому призывает контрклассика.
Подобно разбитому зеркалу, человеческий ум способен отражать лишь фрагменты бытия. Неразрешимый парадокс бытия заставляет умолкнуть и самых речистых: «Тот, кто постиг, не обсуждает; кто обсуждает – не постиг. Даже обладающему острым зрением Путь не встретится. Путь нельзя услышать, и уши лучше заткнуть. Это и будет величайшим постижением» (цит. по: с. 337).
Нота пессимизма особенно усиливается в «Чжуан-цзы», где тема одиночества переходит в тему отчаяния, охватывающего человека в бесконечном мире, наедине с сознанием быстротечности жизни, невозможности в краткий миг – пока «белый жеребенок промелькнет мимо щели» – узнать ответ на единственно важные вопросы, получившие в данной традиции наименование «вопросов к небу», или «вопросов о небе-природе»: «Вращается ли небо? Покоится ли земля? Борются ли за свое место солнце и луна? Кто-нибудь все это направил?..» (Цит. по: с. 337).
Эта тема авторов ЛШ, конечно же, решительно не удовлетворяла. Натурфилософия предпочитала не задавать вопросы, а отвечать на них. Однако тезис контрклассики о невозможности выражения мысли в слове и, следовательно, относительной ценности речи оказался авторам ЛШ близок. Впрочем, мудрец ЛШ готов выслушать хорошего оратора, если тот говорит дело, но очень искусный спорщик опасен – он может увлечь, а это уже «чрезмерность», выход за пределы срединной зоны, в данном случае – здравого смысла, в котором и находят наконец авторы ЛШ искомое примирение доводов ума и порывов чувств.
Красота мысли, явленной в слове, не стала украшением лучшего из возможных миров. Натурфилософы явно предпочитали ей красоту безмолвного гармонического эфира: «Нрав горячего скакуна, порыв дикого гуся… Эти символы дают представление об изначальном порыве человеческого сердца-ума-мысли… Когда человек искренен, душа его бывает услышана другим человеком… К чему же еще слова?» (ЛШ, 26, 1).