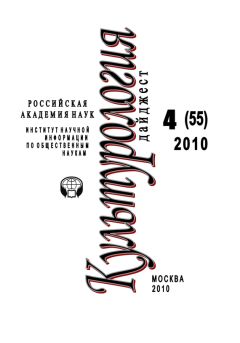Ирина Галинская - Культурология: Дайджест №2 / 2010
В эпоху сентиментализма герой приобрел принципиально иные черты и иное положение в культурном пространстве. Он преобразился в человека внутреннего, чувствительного, его пространство сузилось и стало частным, любовь же заняла место ведущей категории, заместив собой жизнь. Человек делал выбор между жизнью и смертью, как «бедная Лиза» Карамзина. В мотиве самоубийства сталкивались значения жизни и смерти, сам этот поступок мотивировался великим чувством, что привело к возрождению архаической антитезы эрос/танатос.
В эпоху романтизма категории жизни и смерти сблизились. Любовь, как и в эпоху сентиментализма, замещает собой жизнь, но сама эта категория приобрела множество новых смысловых коннотаций, она стала совершенным выражением духа, парящим над жизнью и смертью. Романтики не только изображают историю несчастной любви, завершающейся смертью влюбленных (или одного из них). Смерть не становится преградой в любви. Излюбленный романтический мотив – любовь после смерти. В ту эпоху ему придали новое звучание, наделили пришельца «оттуда» вечной любовью, возник мотив перехода из пространства смерти в пространство жизни (переход этот совершается и в обратном направлении).
Романтики, как и сентименталисты, не стремились создать целостную картину жизни, линия жизни героя обычно не прочерчивалась, а представала в эпизодах, которые на семантическом уровне «организовывали» трагический финал сюжета. Романтиков не привлекала жизнь героя в движении времени, наиболее значимой для них была молодость. Романтический герой завершал свою жизнь в юные годы.
Только реализм был способен представить течение жизни, провести героя через ее этапы, не противопоставляя их напрямую смерти. История человеческой жизни не только как событийный ряд, но и как становление человеческого Я, оформлялась в биографическом романе. Авторы вели своих героев через детство, отрочество, юность, зрелость, как Толстой, Гончаров и др. Смерть романного героя не всегда была конечной точкой сюжета, его история жизни была ценна сама по себе.
На рубеже веков категория смерти вновь стала доминировать над категорией жизни. Представления о смерти резко индивидуализировались, но одновременно ожили мотивы, ведущие свое начало от Средних веков, барокко и романтизма. Эти мотивы, естественно, трансформировались, многие из них утратили драматическую напряженность. Эпоха модерна была «зачарована смертью». Модернисты аллегоризировали жизнь и смерть, превращая противопоставление жизни и смерти в противопоставление начала и конца. Авангард продолжил это противопоставление, но он карнавализовал отношения жизни и смерти, как бы вспомнив традицию осмеяния смерти, идущую со Средних веков и продолжавшуюся в барокко.
Обесценивание смерти, произошедшее в культуре XX в., повлекло за собой обесценивание жизни. Постмодернизм вывел на сцену человека физического, которому уже не приходится пересекать границу между жизнью и смертью. Она стерлась в сознании постмодернистов, как, например, у Пелевина. Его герои не просто переходят рубеж того и этого миров, но, находясь в безотносительном пространстве, бесконечно повторяют множественные превращения. «Нет больше того благодатного состояния, когда ад и рай были разделены: ад был адом, а рай – раем. Все смешалось в неблагополучии нашего времени» (цит. по: с. 193).
Постоянные колебания позиций, в которых находятся категории жизни и смерти, способствуют чередованию образуемых ими культурных парадигм. Данные категории по-разному распределяются в различные культурные эпохи. Постоянно трансформируясь, они непременно участвуют в перекличке эпох.
С.А. ГудимоваИСТИНА, ДОБРО, КРАСОТА 3
В свободной, светской форме три ценности – истина, добро, красота – впервые появились на Западе как чисто человеческие ценности у древних греков. Чрезвычайно важно, что, во-первых, эти три ценности возникают в унисон, они, по сути, составляют единство, и над всеми ними витает этический обертон. Во-вторых, они не только сами по себе едины, но и едины с космическим поиском. Фактически они зародились в космической проблеме. Здесь отчетливо виден импульс к началу осознания человеческих ценностей; ясно видны корни этического мотива.
Древние греки были весьма живым, любознательным, светским народом, чувства которого широко открыты разнообразию жизни, но они все же пребывали под первозданными чарами религии. Историческое достижение этого народа – в освобождении человеческого ума от религиозных шор. И первым актом этого освобождения была досократовская трансформация религиозного абсолюта в космический. В досократовской философии появляются новый взгляд на разнообразие природы, новый опыт изменения в человеческой жизни, сталкивающийся с глубоко укоренившейся потребностью стабильного, вечного порядка. Досократовская мысль, в основном, стремилась примирить это расхождение между вечным и неизменным, которое понималось как истина, лежащая в основе всего существования, и явным смещением и многообразием жизни, которое воспринималось лишь как внешнее проявление и обман чувств, вернее – как грех и вина смертного создания. «Частное и временное ощущались как вероотступничество физического существа; а поиск всеобъемлющей космической субстанции и закона, связующего разнообразие феноменов и присущее им единство, кажущееся изменение и подлинную вечность, – этот поиск вели не только для познания истины, но и для оправдания и спасения» (с. 276). В досократовской мысли в неразвитой, первобытной форме уже содержатся все основные проблемы современной философии, современной науки и современной этики.
В этих концепциях истина и благо едины и мыслятся неподвижными, неизбывными абсолютами. Евклид из Мегары, ученик Сократа и основатель Мегарской школы, отождествлял благо с просто существом, с единством и неизменным космическим законом. Для Платона благо – основа бытия, и как таковое – высший предмет познания. Идея Блага, говорится в «Государстве», «придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать» (цит. по: с. 276). Это – «источник знания и истины». В «Тимее» сам Творец, преданный благу, «пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому» (цит. по: с. 276). Эти концепции живы у стоиков и Цицерона; и у неоплатоников, а впоследствии в средневековой христианской мысли благо и истина снова, как и в древней традиции, воплощались в Боге, в Его духе, в Его воле.
Итак, первое, начальное значение блага в светской форме – это в высшей степени абсолют как таковой, абсолютность, т.е. единство, неизменность и суть.
У Аристотеля связь между вечной стабильностью и изменением стала сложнее и гибче. Она представала как своего рода взаимопроникновение, при котором, впрочем, все еще сохранялись первичность и неуловимость божественного. По учению Аристотеля об энтелехии, субстанция всего существования есть форма. А форма – это врожденный принцип, божественное происхождение и одновременно цель и результат любого конкретного бытия. Любой человек потенциально несет в себе присущую ему форму и должен сделать ее реальной, довести до совершенства при жизни. Утвердилась многосторонняя дифференциация и тонкая иерархия блага – от блага в индивидууме, что есть совершенство его особой природы, и до высшего божественного блага, высочайшего из всех доступных благ. И в этой иерархии общее благо имеет преимущество перед частным. Благо тем более ценно, чем более оно постоянно и более всеобще, – и этим подтверждается, что психическое и духовное благо предшествует физическому.
Здесь возникает второе значение. Благо – это всеобщее, благо всех. Но в учении Аристотеля имеются и другие новые значения блага. Древние греки пока еще размышляли не ради размышления, но с прагматической целью – чтобы найти направление поведению, узнать, как жить достойно, в процветании, с удовольствием. Даже жизнь в созерцании, которая восхвалялась как высшая форма жизни, ни в коем случае не означала того, что ныне называется «жизнью, положенной на алтарь науки». То была высочайшая форма жизни, ибо она высвобождала все человеческие способности для поиска жизни, исполненной смысла, на «труд души». Итак, с самого начала благо для древних греков одновременно, по выражению Сократа (в буквальном переводе), – это «полезное и целостное», что, впрочем, вовсе не передает полного значения греческих слов. Сюда лучше подошли бы выражения «добропорядочная жизнь», «достойный образ жизни». Для древних греков, и особенно для Аристотеля, «добропорядочная жизнь» – жизнь в согласии со своей судьбой и нравом, с Богом в дарованной ему форме, которую каждый должен довести до совершенства, и, наконец, в согласии с космическим порядком, разумным порядком божественной природы.