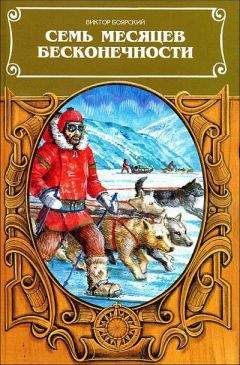Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №05 за 1995 год
«Мама! Я проклинаю тот день, когда ты меня родила!» — кричал моряк с «Христофора Ньюпорта», прыгая в ледяную воду.
Больше трех недель наши военные корабли подбирали моряков с погибших судов в самых различных местах Баренцева моря...
«Конвои в Россию превращаются в привязанный у нас на шее камень!» и Черчилль заявил Сталину о намерении прекратить отправку конвоев в северные порты России.
Шел июль сорок второго, события на фронте решали все. И все теперь зависело от того, будут ли идти суда с военными грузами. Фронт не мог ждать! И Наркомату Морского флота был дан приказ — отправлять суда в одиночное плавание. И шли пароходы, падали в океан по «капле»... Шли старенькие, допотопные, тихоходные — с высокими трубами, коптившими небо, с побитыми бортами, замазанными суриком и шарового цвета краской — цвета войны, — шли трудяги-пароходы. Шли из Скапа-Флоу, из Рейкьявика и Акурейри, из Нью-Йорка, Сан-Франциско, Сиднея в Мурманск, в Архангельск, во Владивосток. Шли, чтобы разгрузить в порту трюмы и снова уйти, снова идти с востока на запад, с запада на восток.
Шли без огней, выбирали самые сложные пути — лед, шторм, туман.
Шли молча — весь океан стал теперь «зоной молчания». В эфир радист мог выйти только один раз — если тебя, твое судно топила вражеская лодка или топил вражеский самолет. Только один раз мог дать в эфир радист координаты своего судна: «В такой-то точке вражеская подводная лодка». Или: «Даю координаты действия авиации противника. Они потопили нас. Все, кто меня слышит, уходите из этого района. Здесь враг».
Им не могли, не имели права, не должны были приходить на помощь друзья — торговые моряки. И они знали об этом, и не помощи они просили помогали друзьям, погибая. Помочь им могли только военные моряки — эсминцы, сторожевики, торпедные катера, корветы охранения. Хорошо, если близко был берег, а в открытом океане?..
«Зона молчания» поразила океан. Гнетущим молчание было на суше. Ничего не известно о судьбе моряка, порой всю войну. Они были торговые моряки, на них не приходили воинские похоронки. Получают родные довольствие в пароходстве, — значит — ты живой! Им не присваивали воинских званий, и в военных билетах тех, кто вернулся домой, долго еще будет стоять: «в войне не участвовал».
Больше нет пароходов, возивших военные грузы. Мало осталось и моряков, ходивших в арктических конвоях и одиночных «капельных» рейсах. И самой первой «каплей» был старый пароход «Фридрих Энгельс». И рулевым на нем — двадцатидвухлетний Евгений Лепке.
С капитаном Лепке снова мы увиделись в Калининграде лишь пять лет спустя. Теперь он больше не плавал, работал где-то на берегу, а где, так и не сказал. Позвонив ему прямо из аэропорта, я сразу же поехал к нему домой.
— Сейчас я разыщу фотографии «Веги», — кричит капитан Лепке из другой комнаты, — тут сам черт ногу сломит, неразбериха такая...
Дом у капитана удивительный. На полках карты, морские книги, каравеллы. Все двери в квартире он сам разрисовал летящими клипперами, высокими фрегатами, штормовыми волнами и парящими в облаках альбатросами... Он сам и рисует, и мастерит. И кинолюбитель, и записывает на магнитофон пиратские песни...
На стене — огромный портрет Джека Лондона работы юного Женьки Лепке. Глядя на портрет и на хозяина дома, я поражался их сходству. Так вот почему лицо капитана показалось мне при первой встрече знакомым...
С него все и началось, — смеется капитан и удобно усаживается в кресло с альбомами в руках. Джек Лондон виноват во всех моих приключениях... В детстве я был страшно упрямый и ни за что не хотел учиться. А чтоб читать, так для меня это гроб был. Читать я терпеть не мог. И вот как-то отец принес домой книжку и стал мне читать. «Мичман Изи» называлась она. Читает он этого «Изи», а мне настолько интересно, что я его только и тороплю: «А что дальше? Что дальше?» «А дальше читай сам!» И отдает мне книгу. Не поверите за две недели я выучился читать. А потом и пошло... В двадцать девятом году отец выписал полное собрание сочинений Джека Лондона, знаете, было такое приложение к журналу «Всемирный следопыт». Ночей не спал, пока не прочитал все от корки до корки. И когда под утро засыпал — все мне снились паруса в море и патруль в Мексиканском заливе.
Там еще в первом томе портрет Джека Лондона был. Так я его срисовал, хотя какой из меня рисовальщик... Но до сих пор храню.
И вот с тех пор я «заболел». В море хочу, и все. И весь разговор. В тридцать шестом году сдал экзамены в Ленинградский институт инженеров водного транспорта на судоводительский факультет. Ну и каждый год, как было? Кончается сессия, идем в Балтийское пароходство наниматься. И ходили матросами. Два месяца у нас каникулы, да еще прихватывали месяца два-три. Получалось, почти полгода плавали. А потом быстро нагоняли упущенные занятия. С раннего утра, часов с шести, а то и с пяти, занимали очередь в библиотеку Салтыкова-Щедрина, ну и за месяц-два нагоняли. Мореходная астрономия, навигация — все это мне очень нравилось. И особенной любовью у меня пользовался английский очень хотелось Джека Лондона в подлиннике прочитать. Зимой в Неве плавал, закалялся. Моряку это первое дело...
В руках капитана фотография старенькой «Веги».
— Вот в первый-то раз мы вышли в море на этой старенькой баркентине. Это великое дело — паруса! Все делаешь сам, своими руками — и ставишь паруса, и убираешь сам, драишь палубу, стоишь за штурвалом...
Сеттер Джолли любит, когда капитан разглядывает старые фотографии, обнюхивает их.
— И тебе хочется в море, Джолли? — спрашивает капитан, и Джолли смотрит на хозяина умными глазами.
— Это у меня Джолли-второй. Первого я подобрал щеночком в порту, когда мы стояли в Рейкьявике. Но это уже другая история. Потом...
Все будет потом. А пока — неизменное, веселое и счастливое, застывшее время размером 9x12. Женя Лепке с ослепительной улыбкой курсант высшей мореходки. На груди — тельняшка, на плечах — спасательный круг с «Беги», и мир его синий и необъятный, распахнутый всем ветрам, как стиранная-перестиранная матросская тельняшка.
Прошли пять курсов учебы, и в сорок первом, в мае месяце, он получил направление в Мурманск на последнюю преддипломную практику.
— Десятого или пятнадцатого мая это было. Пришел я в отдел кадров Мурманского пароходства, а начальником, как сейчас помню, был Глазычев. Посмотрел он на меня как-то сбоку и определил на пароход «Спартак».
Прихожу я на судно, а капитан мне говорит:
— Мне матросы не нужны. Мне нужен третий штурман. Даже не третий. Третьего я в море выучу. А вот второй нужен позарез. Пойдешь вторым штурманом.
— Ну, мне же еще лучше, — только и сказал я.
Пошли... Хорошо было идти вдоль побережья. Солнце, ветерок прохладный — в июне на Севере благодать... Подходим к Иоканьге. 22 июня 1941. Разворачиваемся, холмы у нас уже по правую руку. И вдруг из-за гор, из-за этих черных холмов выскакивает самолет. Идет прямо на нас. И обстрелял. Против солнца-то не видно, что за самолет, ну, черт тебя дери, обалдели все. Еще такая дурацкая мысль пришла — не наш ли тут самолет ерундой занимается, маневрирует да холостыми по цели метит. Чего от одури не подумаешь! А ушел он за корму, тут-то и разглядели мы черную свастику. И радист на мостик прибегает:
— Война!
Сначала на фронт просились всей командой — как же, идет война, а мы здесь. А на фронт не пускают, говорят: «Здесь будете нужны». Но тут вскоре пришел приказ треть команды оставить на судне, остальным срочно прибыть в Мурманск. Так я и попал на пароход «Фридрих Энгельс».
Чем отличался этот первый одиночный рейс «Фридриха Энгельса»? Трудно сейчас сказать. Да мы и не знали, что это первый такой рейс. И какая разница — первый он или не первый? Опытом не поделишься. Самому надо через все это пройти. А в конвоях разве не опаснее было? Конечно, чего греха таить, шансы на проход были маленькие. Но и разговоров о том, что может впереди случиться, не было. Американцы заходили, вздыхали: «Там тяжело, там лодки, самолеты немецкие...» И так далее. А знаете, ждали. Больше всего ждали — поскорее бы уйти. Вот эта неизвестность, ожидание чего-то — это хуже всего. Токарь наш, Костя Краснокутский, бурчал все: «Как к зубному врачу очереди ждешь...» Шутить шутили, да шутки-то выходили все плоские, деревянные.
К рейсу все было готово. Теплоход покрасили в белый цвет, чтобы у льдов укрыться, в тумане незаметнее быть. Две пушки поставили, шесть «эрликонов», да еще нам союзники глубинных бомб подбросили. Ладно, хорошо. Все-таки поспокойнее идти. Сначала в порту, в Рейкьявике, стояли, а, уж не помню, восьмого или девятого августа перебрались в фиорды. И к вечеру, темнеть уже стало, вышли из фиорда в море. Союзные суда провожают, гудят, моряки кричат, руками машут — в другое время порадовались бы такому торжеству. А тут — потише бы, без шума лучше бы было в Исландии агентура немецкая здорово работала.