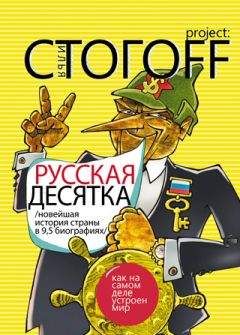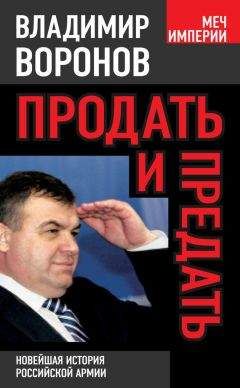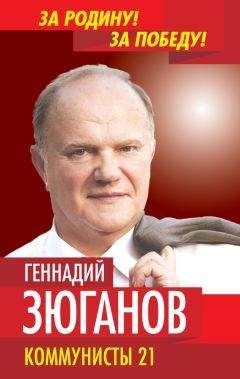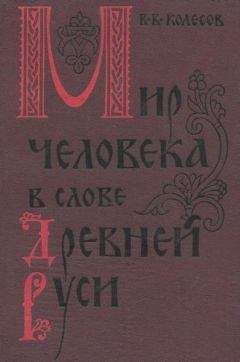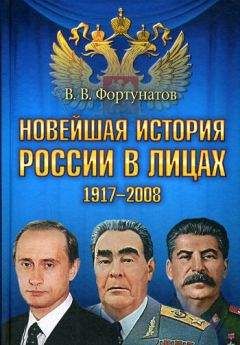Владимир Рыблов - Туркменская трагедия
Все же его иногда обуревали сомнения. А вдруг волна либерализации схлынет, пойдет на убыль, победят противники Горбачева, и тогда прощай секретарство, членство в Политбюро. Лучше уж переждать и держать нос по ветру: вертись, как флюгер, во все стороны. Боялся продешевить и в другом случае: а если победят демократы? Их он в душе не переносил. Консерваторы были ему ближе по духу: все привычное, проторенное, ничего нового придумывать не надо и голову всякой всячиной забивать. Будь на то его воля, он ничего менять не стал бы: чем плох этот режим, давший ему неограниченную власть. В том он убедился еще раз во время январских выборов 1990 года. На последней сессии Верховного Совета ТССР в декабре предыдущего года он откровенно признался, что для него демократия — это лишь игра, и еще не названный даже кандидатом в депутаты, заявил, что непременно будет “избран” депутатом, а затем и председателем Верховного Совета республики.
И стал. Поэтому его вполне устраивала и эта система. А дай волю демократам, расплоди другие партии, устрой говорильню, кто знает, возвысился бы на такую высоту?
Однако рассудил: овчинка выделки стоит. И он сам взвалил на себя тяжелую ношу — опеку над оппозицией. Но радел по-своему, по-ниязовски, рассудив, что быка следует бить по рогам — все тело затрепещет. Для острастки решил начать борьбу с организаторами демократического движения, чтобы остальным неповадно было.
Выступая перед учеными в конференц-зале Академии наук, Ниязов публично пригрозил поэту Ширали Нурмурадову, что упрячет его за решетку, если тот не перестанет писать острую антиниязовскую сатиру, которая на видеопленке и в магнитофонной записи разошлась по всей республике, и народ, где тайком, а то и в открытую слушал поэтические изобличения авторитарного режима, двуличной политики республиканского руководства. Удивительно, что никто из присутствующих не возвысил голос в защиту поэта, не осудил диктаторские замашки Ниязова. И молчаливое одобрение научной интеллигенции подвигло Ниязова впервые за все годы своего правления сдержать слово: в сентябре 1990 года Ш. Нурмурадова арестовали по состряпанному “уголовному” делу, осудили сроком на семь лет тюремного заключения.
Спустя полтора года поэт, к счастью, вышел на свободу — шитое белыми нитками “уголовное” дело, как и следовало ожидать, рассыпалось — но домой не вернулся. Ш. Нурмурадова, освобожденного с помощью международных правозащитных организаций, было бы уготовано на родине самое худшее, не эмигрируй он вовремя в Швецию. Вполне вероятно, что поэта здесь ожидала горестная участь загадочно погибших соратников по “Агзыбирлику”, тех, кому неприкрыто угрожали в кабинетах ЦК Компартии Туркменистана. С четвертого этажа без свидетелей выбросили талантливого писателя Акмурата Широва, резко критиковавшего политику местных властей. В тот трагический момент рядом с беспомощным человеком почему-то оказался гнусный тип, постаравшийся затянуть время с вызовом “скорой помощи”, пока жертва не издала последний вздох в страшных муках. Следом какая-то неизвестная автомашина убивает насмерть блестящего поэта Бапба Геокленова, “дерзкого вольнодумца” и “смутьяна”, посягнувшего в своих едких стихах на “авторитет” Ниязова.
ЗАПАСНЫЙ АЭРОДРОМ ПРЕЗИДЕНТА
Солнце ладонью не заслонишь. Передовые представители творческой интеллигенции, охваченные идеями перестройки, поверившие в провозглашенные лозунги о демократии, не могли смириться с тем, что руководство республики, голосуя на словах за последовательную линию демократизации общества, на самом же деле, стремясь нажить политические дивиденды, манипулировало общественным мнением. В этом отношении весьма показательным был очередной и последний, в буквальном смысле этого слова, съезд писателей Туркменистана, состоявшийся в феврале 1991 года.
Гораздо позже Ниязов в ряде своих выступлений утверждал, что с 1986 года, то есть, когда он уже больше года возглавлял республику, ее правоохранительные органы будто проводили целенаправленную политику стравливания родов и племен, чтобы тем самым защитить проживавшее в Туркменистане русскоязычное население. “Первые уличные беспорядки случились именно у нас, — говорил он на встрече с представителями творческой интеллигенции 14 февраля 1997 г., вспоминая процесс развала СССР. — Инициаторы этих бесчинств, собрав 400-500 юнцов, одели их в спортивные костюмы “Монтана” и пустили по улицам. Заставили бежать до Текинского базара и забрасывать машины камнями. В то время я был первым секретарем ЦК, дал указание никого не трогать. Эти юнцы разбрелись уже на подходе к Текинскому базару. 20 из них были задержаны, остальные разбежались. Кто же стоял за этим происшествием? Тогдашний министр внутренних дел Гринин. Он и ему подобные делали все, чтобы посеять среди туркменского народа раздор и смуту, им была выгодна дестабилизация” (“НТ”,18.03.97).
А в другом своем выступлении перед религиозными деятелями 18 апреля 1994 г. президент уверял, что тогдашний председатель КГБ республики П.М. Архипов, рассуждая о пользе раздоров и конфликтов, будто заявил: “Это даже неплохо... Если между туркменами возникнет родоплеменной спор, до других национальностей у них руки не дойдут” (“ТИ”,25.04.94).
Если это действительно так, то, выходит, Ниязов в обоих случаях занимал роль стороннего наблюдателя и не счел нужным поставить на место “русских провокаторов”, какими он пытался представить тогдашних руководителей силовых структур. С какой стати он тогда молчаливо согласился с их рассуждениями, а то и недозволенными действиями? Уж не на руку ли были и ему вспышки межплеменных раздоров?
Возможно, подобная “акция” исходила с подачи самого Ниязова, занимавшего тогда посты Первого секретаря ЦК и председателя Верховного Совета ТССР. Накануне писательского съезда он принимал группы литераторов, представлявших различные регионы и, заигрывая с каждой, давал одни и те же векселя, заведомо зная, что это рассорит их, внесет еще больший разлад в писательские ряды.
Если же воспроизвести правдивую картину съезда, то его покинула часть делегатов во главе с народным писателем Туркменистана Рахимом Эсеновым. Писатели Н. Ходжагельдыев, Е. Аннакурбанов, Г. Какабаев, Д. Курбанов объявили голодовку. Все эти действия писателей были вынужденными, крайними формами протеста против методов волевого нажима на деятелей литературы, административного диктата руководства республики.
Писательский форум вместо того, чтобы обсудить самые насущные экономические, литературные, политические, социальные, экологические проблемы был запрограммирован на другое: посеять раздоры между собратьями по перу и... разогнать Союз писателей.
Тон тому задал сам Ниязов, которому с самого начала предоставили слово: “На этом съезде, — безапелляционно заявил он, — меньшинство должно слушать большинство”. Подзуживаемое таким высоким опекуном агрессивное меньшинство (?) пошло в атаку, горя желанием поделить кресла и должности, которые посулил сам президент.
О, если бы Ниязов был творческим человеком и за свою жизнь написал хоть одну-две страницы литературного текста, — в нем наверняка подобная мысль и не зародилась бы. Ему, пожалуй, грешно не ведать о том, что Союз писателей — не партия, строго придерживающаяся буквы ее устава, где основой основ, как известно, является именно принцип большинства. Литература — дело тонкое, штучное, интимное, писатель — “индивидуалист”, “частник”, работающий уединенно, и труд его на поток “конвейера” не поставишь. “Махтумкули у нас один и Пушкин — один, — с горечью писал тогда в российскую “Литературную газету” известный туркменский писатель, протестуя против произвола республиканских властей. — Неужели не изжиты печальные времена, когда Власть руководила Творчеством?..” (“ЛГ”,07.08.91).
На съезде неистовствовали равноудаленные как от политики, так и от общей культуры люди, за коими возвышалась фигура самого Ниязова. Их главной задачей стало протаскивание решений, угодных президиуму. Съезд свели по сути к одной проблеме: борьбе за обладание органами печати и кому быть в руководстве Союза писателей.
Литературная газета “Эдебият ве Сунгат”, публиковавшая острые материалы, расходившиеся с официальным мнением, все меньше устраивала самого Ниязова. Ее коллектив, возглавляемый поэтом Аширкули Байриевым, добился того, что издание перестало быть органом лишь Союза писателей и Министерства культуры, а стало выражать интересы всех творческих союзов республики. На съезде, не без указки свыше, был поднят вопрос о “своевольстве” главного редактора, объявленного либерально мыслящим человеком, и это дало повод руководству ЦК освободить вскоре А. Байриева от руководства газетой.
По команде президента был снят с должности поэт Байрам Жутдиев, главный редактор журнала “Совет эдебияты”, считавшегося органом Союза писателей. “Вина” его заключалась в том, что в одном из номеров журнал опубликовал материал о преступлениях партийной номенклатуры. От преследования за критику Б. Жутдиева не спасло даже собственное членство в ЦК Компартии Туркменистана.