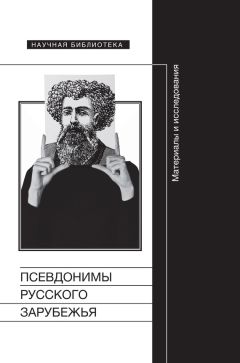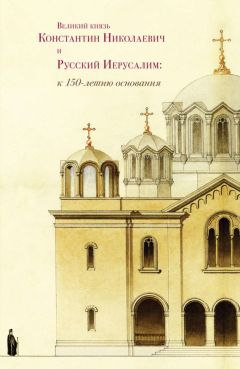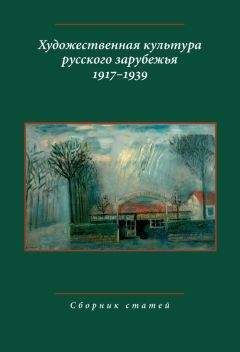Вольфганг Киссель - Беглые взгляды
Однако побывавшие за границей русские люди далеко не всегда оставляли дневники или путевые очерки. Ярким исключением из этого правила явились записки стольника Петра Толстого, предка всех Толстых-писателей, в том числе и «красного графа» Алексея Толстого. Стольник Толстой был послан в Европу Петром Первым и провел там довольно длительное время — с 1697 по 1699 год — якобы для подготовки будущего визита русского царя. Но визит не состоялся, а сам стольник вместе с сыном позднее был казнен при очередной смене власти в России.
Мировоззрение Толстого для того времени было уникально: он не противопоставлял Европу и Россию как два мира, но считал их звеньями одной цепи общего развития. Характерно, что при всем энциклопедизме и эпичности мышления Толстого его авторское «я» определялось именно национальной гордостью. Постепенно путешествие стало оцениваться не только как тяжкий труд, но даже как героическая борьба с «открытым пространством»[575].
В последующие эпохи русские поездки за границу носили учебный, просветительский или же развлекательный характер. Но в разные царствования они то поощрялись (при Екатерине или Александре Первом), то почти запрещались (при Павле или Николае Первом). Однако в любом случае не было достаточных условий для полного исчезновения недоверия и настороженности по отношению к Западу. Русское отношение к нему изначально вобрало в себя, на первый взгляд, противоречивое сочетание ощущений: изгнание и убежище, чужбина и пристанище свободно мыслящего человека, смертельная опасность и возможность спасения, тяготение и последующее разочарование.
Этот дуализм русского просвещенного сознания в полной мере выразился в XIX веке. Хрестоматиен пример Александра Герцена, покинувшего Россию по идеологическим (политическим) причинам, но именно в Европе разочаровавшегося в Западе и в идеях демократии. Признанный западник Иван Тургенев, получивший образование в Берлинском университете, более половины жизни провел в Европе, но со временем все глубже переживал свою оторванность от родных корней. Лев Шестов, автор известной биографии Тургенева, подметил в нем наряду с по-немецки «вышколенной мыслью» какую-то «непонятную тоску»[576].
Уже в самых ранних и знаменитых произведениях этого жанра в России — «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) Александра Радищева и «Письма русского путешественника» (1797–1801) Николая Карамзина — проявляются его специфические особенности. Первое, о чем следует упомянуть, это временное и пространственное несовпадение реального путешествия и его описания. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что первоначальные «путевые» наброски Карамзина были написаны им еще до поездки в Европу. Это несовпадение сохраняется, даже если путешествие описывается в форме дневника, датированных путевых заметок или писем. Впрочем, такая особенность не является только русской; она связана с авторским стремлением к своеобразному «выравниванию времени», к собственной «реабилитации перед историей»[577].
Однако в случае Радищева имеет место, по сути дела, путешествие в Европу, выступавшее в виде своеобразного идеологического подтекста. Ведь в 1768 году группа из шестнадцати человек, среди которых был Александр Радищев, совершила длительное путешествие на Запад, во время которого русские путешественники посещали университетские лекции, в том числе и по философии. Характерно, что первые записки Радищева, уже связанные с русскими обстоятельствами, появились лишь в 1772 году, а его знаменитое «Путешествие» и того позже. Таким образом, как ни парадоксально это звучит, путешествуя «из Петербурга в Москву», автор описывал свои европейские впечатления и вызванные ими мысли. Как известно, произведение Радищева повлекло за собой репрессии по отношению к нему в России.
В XX веке жанр «путешествий», как стремившийся к преодолению конкретного пространства и времени, оказался наиболее «подготовлен» к мифологизации. Доказательством этому служит и характерное ощущение русских людей в Европе, будто настоящее исчезает из их существования: оно либо «сплавляется» с прошлым (впечатление Нины Берберовой в Берлине)[578], либо заменяется вечностью, вбирая в себя прошлое и будущее (Михаил Осоргин о жизни в Париже)[579]. Дмитрий Мережковский и вовсе ассоциировал понятие чужбины с пустотой, выстраивая антитезу: чужбина, пустота, свобода — Россия, плоть, рабство[580].
Нетрудно заметить, что это противопоставление восходит к известному философскому труду Мережковского «Достоевский и Лев Толстой» (1902) о двух русских гениях, представленных соответственно в качестве ясновидца духа и ясновидца плоти. Позднее Освальд Шпенглер в трактате «Закат Европы» (кстати, очень известном в кругу выходцев из России) закрепил этот мифологический дуализм русского духа, связав его святость с Достоевским, а большевизм — с Толстым. С такой точки зрения, весьма любопытным представляется замечание Бориса Зайцева, касающееся русских в Европе:
Эмигранты же, как птицы небесные, не пекущиеся о дне завтрашнем […] радуются солнцу, воздуху и вновь готовы ничего не делать, как доселе ничего не делали.
Эта «бродячая Русь — не то скифы, не то цыгане, не то художники, не то революционеры»[581] явно предстает у Зайцева как сообщество людей божьих, живущих, подобно святым, более духовной, нежели земной заботой.
В этом же ключе, несомненно, можно рассматривать и резкое неприятие Гайто Газдановым личностного «примитивизма» практичных французов. Он объяснял его «последовательностью нескольких поколений, вся жизнь которых заключалась в почти сознательном стремлении к духовному убожеству, к „здравому смыслу“»[582].
«Я люблю весь этот добротный скучноватый рай — Германию», — не без доли иронии признавался Роман Гуль и замечал, наблюдая немецкую забастовку и рабочие волнения в Берлине: возмущенная толпа обходит газоны, цветники, сады — «из германских берегов реки без приказанья не выходят»[583].
Противопоставление русского духовного, творческого хаоса приземленности европейского, в особенности немецкого, мещанского порядка — почти общее место в произведениях путешественников из России. Причем возникало оно не только в сознании изгнанников и эмигрантов, но и у революционно настроенных «гостей» из Советской России. Так, Лариса Рейснер сетовала, что от немецкого пролетариата «воняет» разложением, так как он поражен «проказой мещанства»[584].
Ярким исключением можно считать лишь Марину Цветаеву, принявшую за точку отсчета не бытовые впечатления, но высокое немецкое искусство. Россия «тяжела», Франция — слишком «легка», «Германия по мне», — утверждала Цветаева[585]. Ей импонировала Германия как «тиски», сдерживающие «безмерность» ее собственной души. Ей представлялось, что именно немцам удалось «скрутить быт в бараний рог» тем, что они полностью ему подчинились:
Ни один немец не живет в этой жизни, но тело его исполнительно […] нет души свободней, мятежней, души высокомерней[586].
Вместе с тем от ее взгляда не ускользнула ни вызывающая чувство «усталости» чистота послевоенного Берлина, где даже деревья «без тени», ни «подозрительно серое», но цветущее — на пиве с сосисками — вдовство немецких женщин[587].
Активизация в сознании российских путешественников одного из основных элементов мифа о «русской идее» (противопоставившей, как известно, всецелый Божественный разум — ограниченному человеческому рассудку) стала, по-видимому, реакцией на трудности духовной и бытовой адаптации в Европе. Сюда же можно отнести и, говоря словами Николая Бердяева, неумолимую «власть пространства над русской душой». По мнению Эльды Гаретто, для русских изгнанников она становилась скорее памятью о потерянных времени и пространстве, так как речь могла идти о пространстве «отчужденном»[588].
Ощущение жизни вне пространства, как ее нередко воспринимали русские путешественники в Европе, могло усиливаться ощущением узости жизненного пространства. Михаил Осоргин, вспоминая за границей о русских просторах, писал об окружавшем его усадьбу русском лесе, «уходившем в такую даль, что поместились бы на его пространстве в дружном и свободном сожитии, ни из-за чего не споря и не воюя, Франция и Германия»[589].
«Я вырос в хаотической божественности русской природы», — вспоминал Роман Гуль, противопоставляя свои воспоминания окружавшим его «декоративным» и аккуратным немецким пейзажам[590].