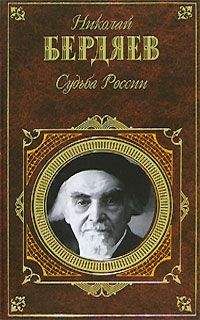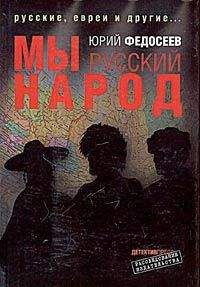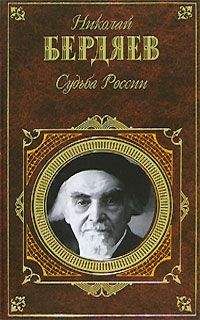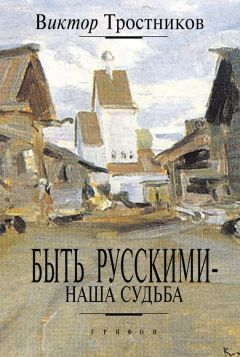Петр Романов - Россия и Запад на качелях истории. От Павла I до Александра II
Александр I пытался решать обе международные проблемы (революция и Восточный вопрос) в рамках созданного им Священного союза. Однако к моменту его смерти потенциал союза был практически исчерпан, да и сама по себе кончина общепризнанного и влиятельного на континенте политического лидера лишила Россию едва ли не главного ее козыря в сложной игре.
Европейские революционеры, турки в Константинополе и партнеры по Священному союзу прислушивались к Петербургу все реже. Таким образом, следовать заветам старшего брата, то есть «поддерживать власть везде, где она существует, подкреплять ее там, где она слабеет, и защищать ее там, где на нее открыто нападают», новому императору становилось практически невозможно.
Вынужденная корректировка прежнего курса происходила в Николаевскую эпоху медленно, но неуклонно: политика в отношении турок была постепенно ужесточена, требовательность к союзникам повышена, а на революции в Петербурге стали в конце концов смотреть избирательно. К концу своего царствования убежденный контрреволюционер Николай Павлович понял, что не все европейские революции противоречат российским интересам, следовательно, вовсе не обязательно «поддерживать власть везде».
Свое внешнеполитическое кредо Николай I попытался сформулировать на пятый год пребывания у власти. В 1830 году в подготовленной им собственноручно записке, озаглавленной «Ma confession», то есть «Моя исповедь», российский император писал:
Географическое положение России столь счастливо, что оно делает ее почти независимой, когда речь заходит о ее интересах, от происходящего в Европе; ей нечего опасаться; ей достаточно границ и ничего не нужно в этом отношении, поэтому она не должна бы никому доставлять беспокойства. Обстоятельства, в которых заключились существующие договоры, относятся ко времени, когда Россия, победив и уничтожив неслыханную агрессию Наполеона, пришла освободить Европу и помочь ей свергнуть удушающий ее гнет. Но память о благодеяниях стирается скорее, чем об обидах…
Далее император, упомянув многочисленные претензии России к неблагодарным союзникам (Австрии, Пруссии и Франции), заявлял, что Священный союз, созданный когда-то его братом, трещит по швам, поскольку главная идея договора регулярно попирается самими же участниками, действующими не исходя из принципов легитимизма, как следовало бы, а исключительно из своих корыстных интересов.
Вывод, сделанный императором, гласил: Россия и впредь готова незамедлительно оказывать помощь тем, кто будет верен «старым принципам», и наоборот, ради нарушителей конвенции «не пожертвует ни своими сокровищами, ни драгоценной кровью своих солдат».
В заключение Николай I писал:
Вот моя исповедь, она серьезна и решительна. Она ставит нас в новое и изолированное, но осмелюсь сказать, почтенное и достойное положение. Кто осмелится нас атаковать? А если и осмелится, то я найду надежную опору в народе, который смог бы оценить такую позицию и наказать, с Божьей помощью, дерзость агрессоров.
В отличие от старшего брата, постоянно стремившегося, несмотря ни на какие сложности и противоречия, собрать и удержать под своим крылом всю Европу, Николай Павлович предпочел иной путь, избрав «изолированное положение».
Уже в этой «исповеди» можно обнаружить те логические провалы, что и предопределили конечный крах внешнеполитического курса Николая I. Достаточно указать на упорную, но безнадежную в условиях череды европейских буржуазных революций попытку реанимировать давно ушедший в прошлое Священный союз. Или на его стремление апеллировать не к логике национальных интересов (хотя Европа уже давно говорила только на этом языке), а к благородному, но давно устаревшему в политике понятию рыцарской чести. Видимо, напомнили о себе отцовские – павловские гены.
Рассуждая о французской и бельгийской революциях, император пишет:
…Расхождения [в Священном союзе] не были столь заметными до позорной Июльской революции… Наши союзники, не посоветовавшись с нами в столь важном и окончательном решении, поспешили своим признанием увенчать революцию… – фатальный и непостижимый поступок, породивший цепь бедствий, которые с тех пор не переставали обрушиваться на Европу… Легко было предвидеть, что пример столь пагубной низости повлечет за собой серию подобных событий и поступков. И верно, за Парижем не замедлил последовать Брюссель.
Разницу в темпах развития Европы того времени и России Николай Павлович не ощущал. Он искренне не понимал, почему, если русские отвергли декабризм, французы и бельгийцы не сделали того же со своими революционерами.
В этом он, кстати, ничем не отличался от подавляющего большинства тогдашних русских интеллектуалов. Поэт Федор Тютчев так смотрел на ситуацию:
Давно уже в Европе существует только две действительные силы – революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой!.. Россия прежде всего христианская империя; русский народ – христианин не только в силу православия своих убеждений, но еще благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. Он – христианин в силу той способности к самоотвержению… которая составляет основу его нравственной природы. Революция – прежде всего враг христианства! Антихристианское настроение есть душа революции!
Стоит заметить, что Тютчев был не только большим поэтом, но и крупным дипломатом. Между тем «политическая поэзия», или «поэтизированная политика», – вещь на самом деле далеко не безопасная, поскольку мешает мыслить трезво и взвешенно. Именно поэтому слова «задушевность», «нравственная природа» и рассуждения о благодати христианского «самоотвержения» в дипломатический словарь обычно не входят.
Но именно так слишком часто думала и рассуждала в те годы российская власть. Не утруждая себя просчетом вариантов, она готова была выступить одна против всего белого света. Логику и аргументы легко заменяло убеждение (весьма, кстати, обманчивое), что Господь всегда на стороне России. На записке историка Погодина в том месте, где автор вопрошал: «Кто же наши союзники в Европе?», Николай Павлович сделал следующую характерную пометку: «Никто, и нам их не надо, если уповаешь безусловно на Бога, и довольно».
При такой разности взглядов на процессы, происходившие тогда в Европе, столкновение России с бывшими партнерами по антинаполеоновской коалиции и Священному союзу становилось почти неизбежным.
Язвительное замечание Николая Павловича о том, что «память о благодеяниях быстро стирается», справедливо (бывшие союзники далеко не всегда вели себя корректно по отношению к русским), но, с другой стороны, императору следовало понимать, что хорошие манеры уже давно не определяют главные тенденции в европейской политике.
Контрреволюционные шаги Николая I достаточно известны, чтобы говорить о них подробно. Напомню лишь, что, помимо подавления польского восстания (1830–1831) внутри самой Российской империи, русская армия в 1849 году усмирила Венгрию, восставшую против Австрии, а до этого содействовала подавлению конституционного движения в Италии. В 1847 году Россия выделила австрийцам на эти цели шесть миллионов рублей из своей государственной кассы.
Меньше знают об эволюции знаменитого контрреволюционера. «Железный» Николай постепенно пришел к выводу, что при определенных обстоятельствах европейская революция для России даже выгодна.
Политический заказ. Итальянская революция для русского контрреволюционера
Имидж закоренелого реакционера, с которым жил и остался в людской памяти Николай I, нередко заставляет историков отбрасывать в сторону ту информацию, что работает не на привычный и принятый уже всеми образ, а против него. Скорее всего, именно поэтому до сих пор игнорируется очень любопытное свидетельство о том, что российский император в 1854 году вел переговоры с одним из крупнейших революционеров той поры, итальянцем Мадзини.
Дважды, сначала в 1910 году в журнале «Русская старина», а затем уже в советские времена в статье историка Бориса Козьмина, об этом шла речь, но и сегодняшние биографы Николая предпочитают на эту тему не распространяться. С точки зрения его поклонников, контакты с Мадзини компрометируют образ «идеального самодержца». С точки зрения его противников – разрушают имидж «тюремщика свободы».
Впервые об этом факте упомянул известный химик, профессор Московского университета Владимир Лугинин (1834–1911). Как и многие другие русские дворяне, он постепенно перешел в оппозицию к власти и сблизился сначала с Герценом и теоретиком анархизма Михаилом Бакуниным, а затем через них со многими известными в Европе демократами и революционерами. Страстный поклонник Гарибальди, Лугинин (уже воевавший ранее в Крымскую войну артиллеристом) одно время мечтал о том, чтобы проникнуть в Италию и присоединиться к революционерам. Пытаясь установить связь с Гарибальди, Лугинин и познакомился тесно с Мадзини. Лугинин вспоминал: