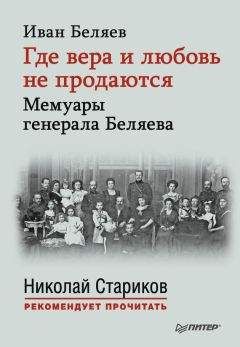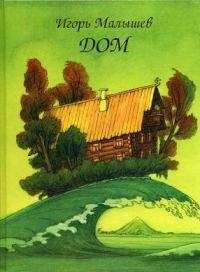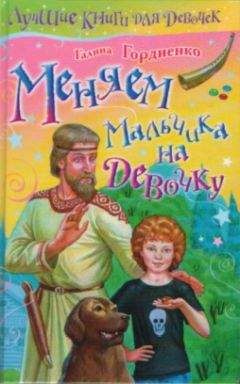Игорь Беляев - Гибрид: Для чтения вслух
— Жид-жид-жид — на веревочке дрожит!
Дедушка обижается и говорит:
— Фуй! Они понятия не имеют, что у нас была революция. И теперь все равны. Не надо даже внимания обращать.
На бульваре никто нас не знает, и никто над нами не смеется.
Там гуляют другие дети. Они ходят за руку парами, с тетей Бонной. К ним приставать нельзя.
Тетя сразу начинает кричать:
— Мальчик, отойди в сторону. Ты не из нашей группы и нам мешаешь.
Дедушка мне сказал, что эта тетя — немка. Она ходит с другими детьми за деньги и учит их говорить по немецкому. Дедушка считает, что лучше бы меня к ним пристроить. Но бабушка сказала, что эти, другие дети, больших начальников. А мы теперь простые люди, и делать нам с ними нечего. Даже в куличики играть невозможно.
Я очень рад, что меня не пристраивают к этой тете. Потому что немцы — фашисты. Скоро мы с ними будем воевать. Когда мы во дворе играем в войну, никто не хочет быть немцем.
Тут оказалось, что мама моей маминой бабушки тоже была немцем. Не фига себе! Я, канешно, рассказывать ребятам про это не стал. И разговаривать по-немецкому не собираюсь.
Один раз на бульваре со мной случился случай.
Мы сидели с дедушкой на лавочке. Делать было совсем нечего.
И вдруг, откуда ни возьмись, появилась девочка. У нее были белые чулочки, и на голове красная шапочка. На бульвар она пришла со своим дедушкой. И этот дедушка как две капли был похож на моего. Тоже с палочкой. Вдруг девочка подошла ко мне сама и сказала:
— Мальчик! Давай с тобой играть.
Я так растерялся. Даже не мог ничего сказать.
— Ты разве немой? — спросила девочка.
— Нет. Я живой.
— А тебя как зовут?
Я, канешно, знал, как меня зовут. Но я первый раз видел такую красивую девочку, и у меня, наверное, отнялся язык. У девочки были такие же белые волосы, как у мамы. И такие же синие глаза.
Тут мне здорово помог чужой дедушка. Он уселся на лавочку и сказал:
— Идите, побегайте. А уж мы тут по-стариковски. Только недалеко.
Никогда я не бегал так быстро. Никогда мне не было так весело. И я не знаю, сколько времени мы играли.
А когда они собрались уходить, девочка спросила меня:
— Ты будешь со мной теперь дружить?
— Буду.
— Всегда?
— Всегда.
Назавтра я опять потащил дедушку на бульвар.
Но Красной Шапочки не было. Больше ее не было. Никогда.
Аня прочитала мне сказку. Про Серого Волка, бабушку и Красную Шапочку. Но эта сказка — неинтересная.
Дворничиха
Дворничиха сказала:
— У ивреев кровь черная.
Я пошел в парадку и порезал палец.
У меня кровь красная.
Значит я — не иврей.
Но у папиной бабушки вчера из носа тоже пошла кровь красная.
Или Дворничиха сказала неправду?
Или папина бабушка — не иврей.
Еще Дворничиха сказала:
— Ивреев не любят за то, что Криста распяли.
А папина бабушка сказала, что Кристос тоже был ивреем.
Получается, раньше все были ивреи? А уже потом сделались русские.
Дворничиха всем рассказывает, что «иврей за иврея» горой. А вот русского им обобрать — как два пальца описать. Они и революцию для этого сделали.
Папин дедушка, когда про это узнал, сказал бабушке, чтобы только я не слышал:
— Может, они думают, что и Гитлер еврей?
Бабушка на дедушку так заругалась! И сказала, что он совсем стал «мишиген» со своим Марксом.
Дедушка обиделся и перестал с ней разговаривать на целый день.
Наша Дворничиха с Никицкой живет во дворе. Только двор не она чистит. Для этого у нее есть муж. А она просто сидит на лавочке, грызет семечки. И ждет нового ребенка.
— Иди-ка сюда, несмышленыш!
Это она меня так подзывает.
— Ну, где твой папаня?
Я говорю:
— В командировке.
— И зачем это люди дурью маются! Только детям очки втирают. Ни в какой он не в командировке. А нашел на свою жопу приключение.
Дворничиха говорит много веселых слов. Только мне их повторять нельзя.
— Сидит твой папаня. Как миленький!
Я не спорю. С Дворничихой никто не спорит. Она все равно лучше всех знает. И соседи ее боятся.
Мне просто делается жарко. И стыдно.
За себя и за папу.
Даже за бабушку. Ведь моя мамина бабушка никогда не врет? Да и папина бабушка только преувеличивает. Они сказали — «в командировке». В командировке!
А может, мой папа… в командировке… сидит?
И тогда никто не врет.
Когда говорят «сидит», это значит… в тюрьме.
Гулять мне уже не хочется. Совсем. Иду домой.
Но дома — молчу. Ни у кого не спрашиваю про это дело. Пусть думают, что я еще маленький.
У Дворничихи много детей. Вовка еще не самый старший. Он мой друг с Никицкой.
Вовка ко мне часто ходит. Дворничиха сказала, что со мной играть все-таки можно.
А бабушка сажает Вовку пить чай или обедать. И наваливает ему всегда больше котлет, чем мне.
Тут Вовка мне по секрету такую штуку сказал:
— Когда мамка снова родит, ей премию отвалят. Денег — тысячу. Она мне — велик. Как пить дать! Я с нее не слезу. Обещала — гони, туды твою мать! А то с дитем твоим — пусть Пушкин сидит. Что я, рыжий? Туды твою мать!
Может, Вовка и врет насчет велика?
Но веселых слов он тоже много знает. И я у него учусь. Тут Аня меня раздевала, и я ей сказал:
— Во бля… во бля…!
Ну просто так, для смеха.
А бабушка мне за это ухо отодрала. До красноты! Первый раз за всю жизнь! Целый час ревел.
Я вообще думал — ухо отвалится.
Дворничиха Вовку за слова никогда не бьет. Вот если он чего-нибудь стырит, тут его отец, канешно, ремнем.
А я еще ремня не пробовал. Никогда.
Ерундистика
Гости всегда пристают:
— Кого ты больше любишь? Папу или маму?
Дурацкий вопрос. Делать им нечего, вот и спрашивают!
— Одинаково.
— Умница, хороший мальчик!
На другой раз, они забывают и опять про это же спрашивают. Просто с ума можно сойти!
По правде говоря, я и сам точно не знаю. Потому что больше всех люблю мамину бабушку. Бабусеньку!
Я это вслух никому не скажу, а про себя: сначала мамину бабушку, потом маму, потом папу. Потом Аню. И всех остальных.
Папиных бабушку и дедушку я тоже люблю. На капельку меньше. Все-таки они. «иврейские». Я не знаю, чем «иврейские» хуже.
Но Дворничиха говорит, что хуже. И в Сокольниках тоже говорят — хуже. Хотя они добрые и больше всех меня любят. Но все-таки мне за них стыдно.
И за себя мне тоже стыдно.
Надо же, какая ерунда приключилась! Моя мама беленькая, а папа, наоборот — иврей. И он еще «сидит» в командировке. А я «натуральный гибрид». Ничего себе шуточки!
Они набезобразничали, а я всю жизнь расхлебывай!
Когда меня дразнят, я даже сдачи дать не могу. Во-первых, потому что еще не умею драться.
Дядя Сережа все обещает меня боксу выучить. Но никак не учит. Аня мне показывала, как руками махать. Сначала крутишь, а потом — раз! Раз! Но это понарошку.
Все-таки надо так стукнуть, чтобы больно было. Пусть не до крови. А бабусенька мне строго-настрого запрещает. Никому, говорит, нельзя делать больно. Лучше встать и уйти потихоньку. Как велел Кристос. И всех надо любить. Да как любить этого Юрку, если он дразнится?
Вон опять, пожалыста!
Треснуть бы ему хорошенько! Чтобы знал!
Но нельзя. И нечего вздыхать. Мамину бабушку лучше слушаться.
Иначе в жизни пропадешь. Или вырастешь никудышным.
А кому охота, спрашивается, быть «никудышным»?
— Кристос терпел. И нам велел, — всегда говорит моя бабусенька.
И я терплю. Из последних сил.
А бабушка, между прочим, опять собирает у своих знакомых детские вещи. Потому что у Дворничихи скоро получится новый ребенок.
Теперь очень трудно разводить детей сколько хочешь, как до революции. Кормить нечем, и жилплощади не хватает.
На Никицкой Дворничихе дали в большом доме подвал. Но ведь подвал тоже не резиновый!
Я прямо вижу сейчас эту картинку.
Вот сижу дома у раскрытого окошка. Горло уже не болит. Но на улицу пока не пускают. Ребята играют в «штандр» маленьким мячиком. Дворничиха на лавочке, лускает семечки и объясняет соседкам:
— Никаких энтих в Москве раньше не было. А вот после энтой революции все сюды набежали. И до чего хитрющий народ! Морду корчит, зубы заговаривает, а сам норовит квартирку хапнуть. Ладно-ть. Хозяин их всех надысь раскусил. Куды ни кинь — враг народа. Вот паразиты! Им што Володька, што Кристос — один черт. Продали матушку Расею германцу за двугривенный. Над людями измываются. Ситцу и того нет. Когда ж ето было, чтоб в Расее ситцу не было? Ладно-ть. Отольются кошке мышкины слезки.
Бабушка мне чертыхаться не велит. «Володька», догадываюсь, это товарищ Ленин. А Ленин раньше был Сталиным. Только теперь он лежит на Красной площади, в Мавзолее. И все к нему ходят по очереди.