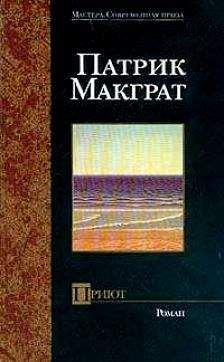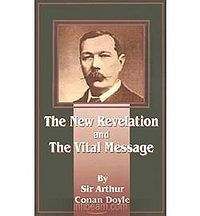Алистер Макграт - Кто изобрел Вселенную? Страсти по божественной частице в адронном коллайдере и другие истории о науке, вере и сотворении мира
Эта же мысль возникла у меня, когда я при работе над этой книгой читал переписку Эйнштейна. Особенно меня потрясло одно письмо, которое Эйнштейн написал всего за несколько месяцев до смерти. Это было письмо с соболезнованиями родным Микеле Бессо, давнего друга Эйнштейна, умершего в марте 1955 года. В письме Эйнштейн рассказывает, как опечалила его смерть друга и какое впечатление оказало на него это известие.
И вот он покинул этот странный мир, опередив меня ненадолго. Это ничего не значит. Ведь верующие физики вроде нас понимают, что все различия между прошлым, настоящим и будущим сводятся всего лишь к стойкому заблуждению[385].
Те, кто прилежно учил теорию относительности, сразу поймут, что имел в виду Эйнштейн. На каком-то уровне он абсолютно прав. Но большинство из нас сочтет, что его замечание не приносит экзистенциального удовлетворения. Как это – ничего не значит, что Бессо умер раньше Эйнштейна? Большинству из нас представляется, что субъективные различия между прошлым, настоящим и будущем очень даже реальны, и это имеет огромное значение. Физика говорит одно, а психология – совсем другое. Да, человеческая жизнь по масштабам космического времени невероятно коротка. Но другой у нас все равно нет. Мы занимаем крошечный участок четырехмерного пространства-времени и все равно хотим жить хорошо и осмысленно.
Разумеется, мы вполне можем строить собственное восприятие времени на основе абстрактной идеи пространства-времени, однако сама по себе эта абстрактная конструкция явно не может обеспечить экзистенциальную составляющую, которая так нужна большинству из нас. Человек – одновременно и субъект, и объект. У каждого из нас свое «сейчас», которое мы отделяем от прежних событий, которые мы помним, и от событий в будущем, которые мы предвкушаем или представляем себе[386]. Именно такова роль нарративов – они позволяют нам находить свое место в потоке времени[387]. Наша конструкция настоящего обычно оформляется в терминах воспоминаний о прошлом и представлений о будущем. Как ясно показывает анализ Эйнштейна, наука зачастую делает из нас не субъектов, а объекты, и поэтому, описывая наше положение, не описывает, что мы на самом деле чувствуем и думаем. Потому-то нам и нужен более масштабный нарратив, который сплетет воедино факты и смысл. Потому-то мы и ищем обогащенную картину реальности, которая учитывает и когнитивную, и экзистенциальную составляющую жизни.
Сам Эйнштейн прекрасно понимал, в чем суть этой проблемы, что видно из его беседы с философом Рудольфом Карнапом (1891–1970). Карнап некоторое время работал в Институте передовых исследований в Принстоне, где у него была возможность обсудить с Эйнштейном философские вопросы, возникшие в ходе его исследований. Вот как пишет об этом Карнап в своих мемуарах:
Проблема «сейчас» глубоко волновала Эйнштейна. Он объяснял, что восприятие «сейчас» имеет для человека особое значение, не такое, как восприятие прошлого и будущего, однако физика не работает и не может работать с этим существенным различием [388].
Карнап писал, как горько было Эйнштейну сознавать, что физика не способна уловить это различие, экзистенциальное значение которого едва ли можно отрицать.
Эйнштейн полагал, что эти научные подходы никак не могут удовлетворить человеческие потребности, что в «сейчас» заключено что-то очень важное, что лежит за пределами мира науки.
Проблема заключается в том, что из естественных наук исключается воспринимающий субъект, причем австрийский физик Эрвин Шрёдингер проследил эту тенденцию до древнегреческой натурфилософии[389]. Однако самая суть, самое сердце человеческого состояния – это как раз «Я-позиция». Исключать ее из картины мира невозможно, иначе эта картина потеряет экзистенциальный смысл. Надо вернуть эту точку зрения, а для этого придется расширить, обогатить и исправить нарративы, которым недостает этой важнейшей черты.
Суть проблемы ясна. По словам Карнапа, Эйнштейн полагал, что «научные описания неспособны удовлетворить все человеческие потребности». Он ни в коем случае не считал, что экзистенциальные недостатки научных описаний можно считать показателем их ошибочности – очевидно, что это совсем не так. Просто Эйнштейн понимал, что мы как думающие и рефлексирующие существа не можем удовлетвориться одними лишь научными описаниями[390]. Поскольку мы – люди, и это необходимо учитывать при построении любой философской системы, наши потребности таковы, что их приходится удовлетворять и тем, что выходит за рамки науки. Подобные подходы задействуют другой уровень реальности и поэтому способны обогащать научный подход, давая более полное представление об изучаемом предмете.
Легко видеть, как все это вписывается в широкий нарратив: больной вопрос «объектно-субъектных отношений» имеет долгую философскую и богословскую историю. Сам Шрёдингер считал, что эти отношения лежат в основе квантовой механики, и в 1931 году писал об этом физику Арнольду Зоммерфельду (1868–1951)[391]. Австрийский философ Фердинанд Эбнер (1882–1931) и немецко-еврейский философ и мистик Мартин Бубер (1878–1965) в двадцатые годы прошлого века посвятили этой теме фундаментальные труды[392], поскольку их заботило, что излишний объективизм неспособен воздать должное экзистенциальным и реляционным потребностям человека, – именно этот вопрос волновал и Эйнштейна.
В V веке на ту же тему размышлял и Блаженный Августин, хотя он явно придерживался религиозного подхода. В наши дни Августина считают одним из первых мыслителей, занимавшихся вопросами автобиографической памяти[393]. При анализе природы времени Августин делал особый упор на осознании субъективного времени, в котором существует мыслитель как личность, и на осознании индивидуального существования в субъективном времени. Исследования Карла Шпунара из Гарвардского университета показали, какую важную роль играет идея «субъективного времени» для человеческого самосознания[394], а также для религиозного и метафизического обогащения, понимаемого примерно в том же духе, как и в классическом тексте «Исповеди» Августина.
Августин предлагает аппарат, который позволяет выявить субъективное значение настоящего момента и бережно сохранить его, ни в коей мере не упуская из виду представлений о пространстве и времени согласно теории относительности Эйнштейна. А это, в свою очередь, задает рамки для признания и воспоминаний о прошлом, и надежд на будущее. Подобный обогащенный нарратив позволяет связать воедино самые разные идеи, не нарушая при этом границ между дисциплинами и одновременно обеспечивая полное осознание и понимание «картины в целом», а не какого-то ее фрагмента[395].
Конечно, это довольно сложный пример, требующий от читателя серьезных усилий. Однако он помогает нам понять, как можно (а с точки зрения Эйнштейна – нужно) обогатить научный нарратив, не искажая его. Дэвид Мермин отмечает, что настала пора обдумать, «какие еще фундаментальные загадки можно разгадать, если восстановить равновесие субъекта и объекта в физических науках». И верно. Причем мы уже располагаем всеми масштабными нарративами, которые нам в этом помогут – они только и ждут, когда мы к ним обратимся.
Ночная тишь. О созерцании небес
Когда Эйнштейн с горечью признал, что научные описания не способны удовлетворить экзистенциальные потребности человека, это заставило его сделать вывод, что «за пределами мира науки» лежит что-то очень важное. Подобные ощущения знакомы многим – и они не всегда связаны с естественными науками. К. С. Льюиса преследовали мысли о чем-то, что лежит за горизонтом опыта – словно далекий цветок, чей аромат доносит мимолетный ветер. Писатель Салман Рушди называл подобные трансцендентные моменты «полетом человеческого духа за пределы его материального, физического существования»[396]. И практически то же самое говорил и Ньютон, когда уподоблял ученого ребенку, который играет на берегу океана истины и от увлеченности коллекционированием наблюдений упускает из виду их конечный смысл:
Думаю, я был подобен маленькому ребенку, который играет на берегу: то и дело я отвлекался на гладкий камешек или красивую ракушку, а между тем передо мной раскинулся великий океан истины, которая так и осталась не открытой[397].
Это чувство знакомо и мне. Помню, как в конце шестидесятых годов я глядел в небо зимними ночами и видел Пояс Ориона – три яркие звезды в созвездии Ориона. Тогда я был атеистом и не интересовался Богом. Как и многие другие, я глубоко восхищался чудесами природы, и это ощущение лишь усиливалось при виде ночного неба – я словно бы стоял на пороге чего-то, что мой разум упорно называл воображаемым, однако интуиция настаивала, что это очень важно. Интуиция никогда не оставляла меня, я всегда слышал ее тихий голос, выражавший сомнения в моем атеизме, таком простом и ясном. Признаться, в те годы вид ночного неба тревожил меня, потому что наводил на вопросы об экзистенциальной адекватности устоявшихся рационалистических предположений. Моих тогдашних познаний в астрономии вполне хватало, чтобы понять, что свет от этих звезд шел до Земли как минимум несколько сотен лет. В сущности, смотреть на звезды Пояса Ориона – все равно что путешествовать в прошлое. Я их видел такими, какими они были когда-то, а не такими, каковы они сейчас. К тому времени, как свет, который они сейчас испускают, дойдет до Земли, меня уже давно не будет. Эти звезды стали для меня символом бренности моего бытия, молчаливым холодным напоминанием о краткости человеческой жизни. Вселенная, конечно, очень красива. Но при этом она, как мне тогда казалось, лишена какой бы то ни было цели.