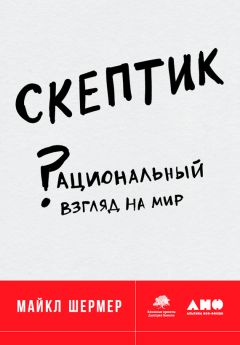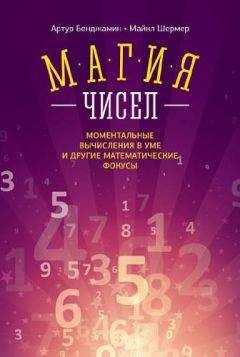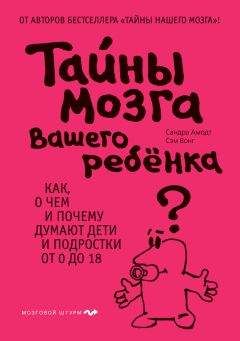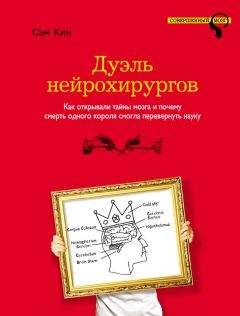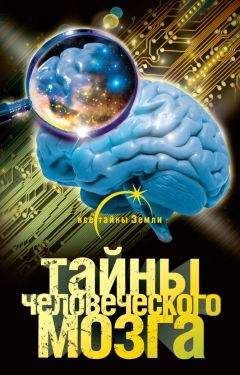Майкл Шермер - Тайны мозга. Почему мы во все верим
Так и в случае с жизнью после смерти: если у нас нет стопроцентного, совершенно естественного объяснения всего опыта, который получают люди в околосмертном состоянии, то это вовсе не значит, что нам никогда не постичь смерть или что здесь действует некая таинственная сила. И уж конечно, это не означает существования жизни после смерти. Это значит лишь, что мы не знаем всего. Такая неопределенность составляет саму сердцевину науки, именно она превращает науку в сложное и увлекательное предприятие.
Надежда и знание
По темпераменту я сангвиник, и мне по-настоящему неприятно тушить пламя надежды холодной водой скептицизма. Но то, что действительно верно, для меня даже важнее того, на правильность чего я надеюсь, а это факты, какими я их понимаю.
Иногда меня обвиняют в том, что мой скептицизм имеет ошибочное направление, или в том, что я настроен чересчур скептически – себе же во вред. Порой мне даже вменяют в вину дениализм: я не хочу, чтобы нечто было верным, следовательно, всеми правдами и неправдами ищу причины отвергнуть это нечто. Безусловно, временами бывает и так. В сущности, верообусловленный реализм и подтверждение убеждений после того, как они уже сформировались, относятся ко мне в той же мере, как и ко всем остальным.
Но по отношению к конкретному вопросу агентичности и ее проявлений в дуализме, разуме, сверхъестественном и жизни после смерти я, однако, не питаю никакой склонности к дениализму. На самом деле я втайне желаю этих проявлений в реальности. Жизнь после смерти? Я только «за»! Но одного моего желания для этого недостаточно. В этом и заключается проблема понимания разума с целью познания человечества: наша система убеждений имеет такую структуру, что мы почти в любом случае найдем подтверждение тому, во что хотим верить. Таким образом, непреодолимое желание верить в что-нибудь «потустороннее», будь то разум, дух или Бог, означает, что мы должны проявлять особую бдительность в своем скептическом отношении к утверждениям, сделанным на аренах веры.
Противоречит ли научный монизм религиозному дуализму? Да. Душа либо выживает после смерти, либо нет, и нет никаких научных свидетельств тому, что выживает или когда-либо будет выживать. Лишают ли жизнь смысла наука и скептицизм? Не думаю: в сущности, дело обстоит прямо противоположным образом. Если эта жизнь – все, что у нас есть, как много значат она сама, наша семья, наши друзья, наши сообщества, наше отношение к окружающим, если важны каждый день, каждая минута, каждые взаимоотношения, каждый человек, причем не как реквизит для промежуточной сцены перед вечным завтра, где нам откроется высшая цель, а как ценные сущности здесь и сейчас, где мы осуществляем временный замысел.
Наша система убеждений имеет такую структуру, что мы почти в любом случае найдем подтверждение тому, во что хотим верить.
Осознание этой реальности возводит всех нас на более высокую плоскость гуманизма и смирения, пока мы идем по жизни все вместе, в этом ограниченном времени и пространстве – сиюминутной сцене космической драмы.
8
Вера в Бога
Из многочисленных двойных названий, данных нашему виду – Homo sapiens, Homo ludens, Homo economicus – веские доводы можно привести в пользу Homo religiosus.
Согласно «Всемирной христианской энциклопедии», выпущенной издательством Oxford University Press, 84 % населения планеты принадлежит к той или иной форме организованной религии, на конец 2009 года количество приверженцев религии составило 5,7 миллиардов человек. Это уйма душ. Христиане преобладают, имея примерно 2 миллиарда приверженцев (примерно половина из них – католики), мусульман насчитывается чуть больше миллиарда, индуистов – приблизительно 850 миллионов, буддистов – почти 400 миллионов, и сторонники этнорелигиозности (преимущественно анимисты и пр. в Азии и Африке) составляют большую часть оставшихся нескольких сотен миллионов верующих. Во всем мире существует около 10 тысяч отдельных религий, каждую из них можно подразделить на разновидности и классифицировать. Например, христианскую религию составляют примерно 34 тысячи различных конфессий.[181]
Несколько неожиданно – поскольку мы являемся самой развитой в техническом и научном отношении страной в истории – выглядит тот факт, что Америку населяют наиболее религиозные представители нашего вида. В 2007 году опрос Pew Forum выявил следующие процентные соотношения тех, кто верит в:
Бога или всеобщий дух – 92%
Рай – 74%
Ад – 59%
что Священное писание – слово Божие – 63%
Молитву раз в день – 58%
Чудеса – 79%
Кем или чем представляется Бог, зависит от религиозной веры. Бог – это личность, с которой верующих могут связывать взаимоотношения, или безликая сила? Согласно опросу исследовательского центра Pew, 91 % мормонов верит в олицетворенного Бога, но той же веры придерживаются лишь 82 % свидетелей Иеговы, 79 % приверженцев евангелической церкви, 62 % протестантов и 60 % католиков. Для сравнения: 53 % индуистов, 50 % иудеев, 45 % буддистов и 35 % верующих, не принадлежащих к конкретной религии, верят в Бога как безликую силу. Меня особенно поражает и вместе с тем подкрепляет одну из центральных тем этой книги, агентичность, дуалистическое убеждение в существовании чего-то еще – такое стойкое, что даже 21 % людей, назвавшихся атеистами, и 55 % людей, отождествляющих себя с агностиками, выказали веру в того или иного бога или всеобщий дух.[182]
Почему Бог запрограммирован в нашем мозге
Приведенная статистика поражает воображение. Любая характеристика, настолько распространенная у вида, буквально требует объяснений. Почему так много людей верят в Бога?
На одном уровне я уже ответил на этот вопрос в главах, посвященных паттерничности и агентичности. Бог – это высший паттерн, объясняющий все, что происходит, от зарождения вселенной до конца времен, а также все промежуточные стадии, в том числе и в особенности судьбы человечества. Бог – высший «агент намерения», который придает вселенной смысл, а нашей жизни – цель. Как высшее сочетание, паттерничность и агентичность образуют когнитивную основу шаманизма, язычества, анимизма, политеизма, монотеизма и всех прочих измов и спиритуализмов, придуманных человеком.
Несмотря на существование многочисленных культурных разновидностей религии, их объединяет вера в сверхъестественные «агенты» в виде божественной сущности или духов, наделенных намерением и взаимодействующих с нами в мире. Три строчки свидетельств указывают на вывод, что эти убеждения запрограммированы у нас в мозге и поведенчески выражены последовательными паттернами на протяжении развития истории и культуры. Эти очевидные строчки заимствованы из теории эволюции, генетики поведения, сравнений мировых религий, и все они подтверждают более масштабную мысль, представленную в этой книге: первой возникает вера, а за ней – причины веры. Рассмотрев данные свидетельства, я покажу, почему невозможно знать наверняка, существует ли Бог, а также почему любые научные или рациональные попытки доказать существование Бога приводят лишь к нашему осознанию интеллекта, большего, нежели наш собственный, но значительно меньшего, чем всезнание, традиционно ассоциирующееся с Богом.
Бог – это высший паттерн, объясняющий все, что происходит, от зарождения вселенной до конца времен, а также все промежуточные стадии, в том числе и в особенности судьбы человечества. Бог – высший «агент намерения», который придает вселенной смысл, а нашей жизни – цель.
Эволюционная теория и Бог
В своей книге 1871 года «Происхождение человека» Чарльз Дарвин отмечал, что антропологи пришли к выводу о том, что «вера в повсеместно находящихся духовных деятелей, кажется, всеобща и, очевидно, является следствием значительного повышения разума человека и еще большего повышения его способностей воображения, любопытства и удивления».[183] Чем озадачивала Дарвина всеобщая природа религиозной веры, так это тем, как она объясняется с точки зрения естественного отбора. С одной стороны, он писал: «Чрезвычайно сомнительно, чтобы потомки более способных к симпатии и более добродушных родителей, или же тех, которые были наиболее верными своим товарищам, могли оказаться более многочисленными, нежели потомки себялюбивых и вероломных родителей из того же племени. Тот, кто охотно жертвовал своею жизнью, что часто встречается и у дикарей, предпочитая смерть измене товарищам, часто вовсе не оставлял потомства, способного унаследовать его благородную натуру».[184] С другой стороны, хотя Дарвин был рьяным сторонником ограничения масштабов и влияния естественного отбора исключительно уровнем отдельно взятых организмов, он признавал, что отбор может действовать и на уровне группы, когда речь идет о религии и межгрупповой конкуренции: «Племя, включающее многих членов, которые при обладании в высокой степени духом патриотизма, верностью, послушанием, мудростью и симпатией всегда были готовы помогать друг другу и жертвовать жизнью ради общего блага, – такое племя будет одерживать верх над многими другими, а это и есть естественный отбор [группы]».[185]