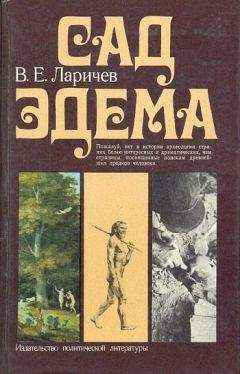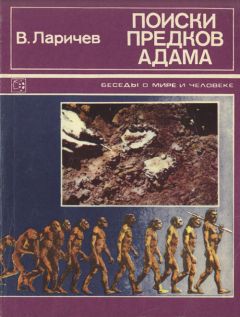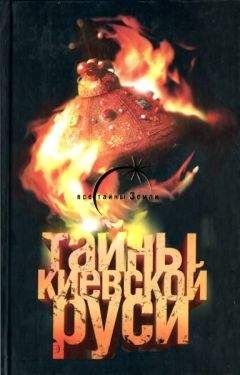Мартин Гарднер - Когда ты была рыбкой, головастиком - я...
С другой стороны, Рассел, я полагаю, был прав, утверждая, что Джеймс часто писал так, словно его заботили одни лишь практические следствия мышления и деятельности, протекающих в предположении, что Бог есть, а не вопрос о том, действительно ли Бог существует. На мой взгляд, Джеймс не рассматривал веру на столь сверхъестественном уровне. Во всяком случае, большинство фидеистов относятся к вере иначе.
Следует понимать, что каждый, кто совершает прыжок веры, не говорит себе при этом: «На самом-то деле я толком не знаю, существует Бог или нет, и не знаю, будет ли жизнь после смерти, но я считаю эти убеждения удобными, так что сделаю-ка я вид, будто они верны». Возможно, какие-то философы и способны на такой сумасбродный подход к вере (его можно назвать «если бы»), но я никогда не встречал теиста, который мыслил бы таким образом. Совсем наоборот! Верующий обычно больше убежден в реальности Бога, чем в истинности каких бы то ни было научных гипотез.
Это верно даже по отношению к Канту. Явной ошибкой будет обвинять Канта в этом извращенном «als ob» [132], которое провозгласили некоторые его немецкие последователи. Да, вера в Бога не является знанием, но Кант, и он признавал это сам, отверг знание, чтобы расчистить место для веры. Для него, как и для Платона, воспринимаемый чувствами феноменальный мир, фанерой, открыт для ученых изысканий, но менее реален, чем трансцендентный мир, для которого фанерой — лишь тень. И это именно наше трансцендентное Я, в данное мгновение оказавшееся в ловушке пространства-времени, посредством веры убеждается в существовании трансцендентного Бога. Кант не только избегает упоминать о Боге как о постулате, принадлежащем к классу «если бы» и менее реальном, нежели Вселенная: нет, он утверждает прямо противоположное.
Немного личного, с вашего позволения. Милостью Божьей я совершил этот прыжок в отрочестве. Когда-то вера для меня неразрывно связывалась с уродливым протестантским фундаментализмом. Постепенно я его перерос и в конце концов решил, что даже не буду называть себя христианином (разве только захочу использовать это слово, чтобы ввести кого-нибудь в заблуждение), но вера в Бога и в бессмертие никуда не делась. Эти мучительные перемены во многом отражены в моем романе «Полет Питера Фромма». Изначальный прыжок не стал каким-то мгновенным и резким переходом. Для большинства верующих никакого перехода и нет. Они просто вырастают, принимая религию родителей, какова бы она ни была. А на других, как все мы знаем, вера обрушивается внезапно, и это обращение ошеломляет, как взрыв, как нежданный удар грома.
Джеймс называет «чрезмерной» убежденность, питаемую лишь сердцем. Но это не значит, что такая вера не является истинной. Это лишь значит, что такие убеждения принадлежат к некой особой разновидности. Почему я верю в теорему Пифагора? Потому что могу проследить за дедуктивным доказательством, основанным на постулатах Евклидовой геометрии, и потому что теорема подтверждается опытным путем. Но этот выбор не относится к категории живых. В каком-то смысле вера в формальную истину, провозглашаемую той или иной теоремой, является тривиальной, пустой верой. Она говорит мне лишь о том, что если я приму определенные аксиомы, а также правила для манипулирования определенными символами, то я смогу создать цепочку таких символов, которую можно будет интерпретировать как Пифагорову теорему. Я верю в формальную истину этой теоремы во многом по тем же причинам, по каким я верю, что не существует женатых холостяков.
Математические теоремы полезны, так как они приложимы к материальному миру, однако эти приложения (как я уже говорил раньше) требуют того, что Рудольф Карнап назвал правилами соответствия: пример — отождествление числа 1 с камешком или звездой, а прямой линии — с лучом света. Переходя от чистой математики к прикладной, мы сразу же попадаем в царство, где гипотезы становятся шаткими, и самое лучшее, что мы можем для них сделать, — это оценить их по степени достоверности. Естественным образом мы сильнее всего верим в те положения науки, что кажутся нам успешнее подтвержденными, но вера в Бога способна нести с собой убежденность, проистекающую из самого сердца, и она сильнее, чем любое мнение относительно мира. Мне легче поверить, что любой научный факт или закон — не более чем мимолетная иллюзия, навеянная Великим Фокусником и обреченная перемениться, когда Великий Фокусник решит исправить свое Правило, нежели поверить, что этого Великого Фокусника не существует [133]. Но это знание — явно не того же рода, что в математике или прочей науке. Вполне тривиальная истина: мы верим в то, о чем знаем (или думаем, что знаем). Но поверить в то, чего мы не знаем, на что мы лишь надеемся, но не можем увидеть, — вот самая сущность той веры, о которой я веду речь.
Я не без удовольствия готов вместе с Унамуно признаться в том, что у меня нет никаких оснований для веры в Бога, за исключением страстного желания, чтобы Бог существовал и чтобы я, как и другие, никогда не прекращал существовать сам. Поскольку я всем сердцем верю, что Господь поддерживает всё сущее, из этого следует, что мой прыжок веры (каким именно образом — это за пределами моего понимания) явился своего рода ответом на просьбу Бога, находящегося вне меня и пожелавшего, чтобы я поверил, — и Бог внутри меня откликнулся на этот призыв. Теисты заявляли то же самое тысячи раз. Давайте послушаем, как говорит об этом Унамуно [134]:
Желая, чтобы Бог мог существовать, ведя себя так, чувствуя себя так, словно Он действительно существует, испытывая жажду существования Бога и поступая в соответствии с этой жаждой, мы тем самым создаем Бога, то есть Бог создает Себя в нас, проявляет Себя в нас, открывается нам. Ибо Господь выходит к тому, кто ищет Его с любовью и движим любовью, но Он скрывается от того, кто ищет Его холодным рассудком, лишенным любви. Господь желает, чтобы обрело покой сердце, а не голова, хотя в материальной жизни происходит наоборот, и голова иногда спит и отдыхает, тогда как сердце бодрствует, неустанно работая. А следовательно, знание без любви уводит нас прочь от Бога, тогда как любовь, даже без знания (а возможно, даже и лучше, если без знания), приводит нас к Богу, а через Бога — к мудрости. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят! [135]
Добавить к этому нечего. Глубинная сущность прыжка веры остается смутной. Признаться, я понимаю ее не больше сущности фотона. Я перечислил несколько элементов, которые способны стать основанием для веры; многих я не назвал; и любой из них Господь может использовать, дабы подтолкнуть кого-то к такому скачку. Не знаю, не знаю! У истоков прыжка, да и у истоков всякого решения, лежит тайна свободной воли, тайна, неотделимая для меня от загадок времени или причинности, от тайны воли Господней.
Глава22
«Разноцветные земли»
Гилберт Кийт Честертон (Г.К.Ч.) был довольно неплохим художником. Он проиллюстрировал собственный сборник рассказов «Клуб странных профессий» (издательство «Dover» в 1988 году переиздало его в мягкой обложке, воспроизведя все рисунки), а также шесть книг своего друга Хилейра Беллока. Неопубликованные иллюстрации Честертона к детективному роману Уилки Коллинза «Лунный камень» хранятся в Честертоновской коллекции Джона Шоу, принадлежащей ныне Университету Нотр-Дам [136].
Насколько мне известно, «Разноцветные земли» — единственная книга, где рисунки Честертона помещены в полноцветном варианте. Далее следует предисловие, которое я написал для нового издания этой книги («Dover», 2008).
«Самое удивительное во Вселенной, — заметил Честертон в своем эссе о чуде и деревянном столбике, — это то, что она существует». Самое удивительное в Г.К. Честертоне — то, что существовал он.
Если у вас, как и у меня, Честертон любимый герой, то вы сразу обнаружите, что «Разноцветные земли» насыщены его чудесными ранними текстами. Книгу составила Мейзи Уорд в 1938-м, спустя два года после смерти автора. Уорд была другом и биографом Г.К.Ч. Надо заметить, что с тех пор вышли десятки его жизнеописаний, однако так и не появилось ничего лучше и точнее работы Уорд — 685-страничной книги «Гилберт Кийт Честертон».
Заглавный рассказ в «Разноцветных землях» повествует о чудаковатом молодом человеке, который дает мальчику Toмми по очереди посмотреть сквозь четыре пары цветных очков, окрашивающих всё вокруг в синие, красные, желтые или зеленые тона. Юноша сообщает Томми, что в детстве его зачаровывали цветные очки, но вскоре он устал видеть мир однотонным. Он объясняет: в городе алом, как роза, не увидишь цвет розы, потому что там всё алое. По совету могущественного волшебника юноша пишет пейзаж по собственному хотению: