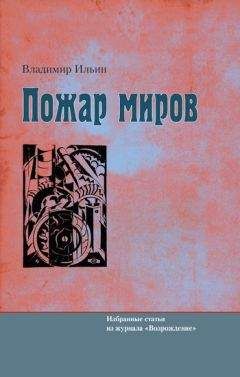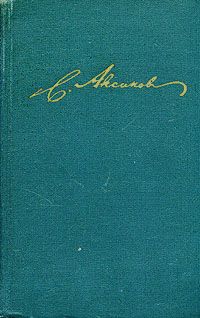Михаил Гаспаров - Избранные статьи
Первое, что обращает на себя внимание при чтении этого вступления, — некоторый пафос, свойственный ранним годам русского формализма, когда господствовало желание подчеркнуть, что не смысл определяет звук, а звук определяет смысл в поэтической речи, пафос, быстро оставленный и уступивший место более тонкому анализу соотношения «формы» и «содержания». Перечитывая Эйхенбаума сейчас, через пятьдесят лет, хочется внести коррективы в его анализ именно в этом плане: хочется (рискуя открыть Америки, давно открытые гимназическими учебниками, писавшими о «теме общения с природой») показать, что о смысловой градации в лермонтовском стихотворении никак нельзя сказать, будто она «слишком слабо проявлена» и «загромождена» посторонними деталями. Напротив, она построена так же четко и обнаженно, как и градация ритмико-синтаксическая. Именно об этом и пойдет речь в настоящей заметке; вопросы синтаксиса и интонации здесь затрагиваться почти не будут, потому что в этой области к исчерпывающему анализу Б. Эйхенбаума нам добавить нечего.
И второе, на что мы обращаем внимание в процитированных словах Б. Эйхенбаума, — это брошенное мимоходом проницательное замечание: «Кажется, что стихотворение написано на заданную схему…». Думается, что для такого замечания имеются оснрвания, хотя, быть может, и не совсем те, которые имел в виду Б. Эйхенбаум. Нам кажется, что можно не только выделить «заданную схему» этого стихотворения, но и указать ее возможный источник — стихотворение А. Ламартина «Крик души» из его сборника 1830 г. «Гармонии». До сих пор указаний на сходство этих стихотворений в научной литературе мы не обнаружили (да и вся тема «Лермонтов и Ламартин» разработана гораздо меньше, чем иные, аналогичные ей).
Вот текст Ламартина:
LE CRI DE L’AME
Quand le souffle divin qui flotte sur le monde
S’arrête sur mon âme ouverte au moindre vent
Et la fait tout à coup frissonner comme une onde
Où le cygne s’abat dans un cercle mouvant! —
Quand mon regard se plonge au rayonnant abîme
Où luisent ces trésors du riche firmament,
Ces perles de la nuit que son souffle ranime,
Des sentiers du Seigneur innombrable ornement! —
Quand d’un ciel de printemps l’aurore qui ruisselle,
Se brise et rejaillit en gerbes de chaleur,
Que chaque atome d’air roule son étincelle,
Et que tout sous mes pas devient lumière ou fleur! —
Quand tout chante ou gazouille ou roucoule ou bourdonne,
Que l’immortalité tout semble se nourrir,
Et que l’homme ébloui de cet air qui rayonne,
Croit qu’un jour si vivant ne pourra plus mourir! —
Quand je roule en mon sein mille pensers sublimes,
Et que mon faible esprit ne pouvant les porter
S’arrête en frissonnant sur les derniers abîmes
Et, faute d’un appui, va s’y précipiter! —
Quand dans le ciel d’amour où mon âme est ravie,
Je presse sur mon coeur un fantôme adoré,
Et que je cherche en vain des paroles de vie
Pour l’embasser du feu dont je suis dévoré! —
Quand je sens qu’un soupir de mon âme oppressée
Pourrait créer un monde en son brûlant essor,
Que ma vie userait le temps, que ma pensée
En ramplissant le ciel déborderait encor! —
Jéhova! Jéhova! ton nom seul me soulage!
Il est le seul écho qui réponde à mon coeur!
Ou plutôt ces élans, ces transports sans langage,
Sont eux-même un écho de ta propre grandeur!
Tu ne dors pas souvent dans mon sein, nom sublime!
Tu ne dors pas souvent sur mes lèvres de feu:
Mais chaque impression t’y trouve et t’y ranime.
Et le cri de mon âme est toujours toi, mon Dieu!
Подстрочный перевод:
Когда божественное дыхание, овевающее мир,
Касается души моей, открытой малейшему ветерку,
И мгновенно зыблет ее, как влагу,
На которую лебедь опускается, кружась, —
Когда взгляд мой погружается в сияющую бездну,
Где блещут бесценные сокровища тверди,
Эти перлы ночи, живимые ее дыханьем,
Несчетные украшения путей божества, —
Когда заря, стекая с весеннего неба,
Дробится и брызжется жаркими лучами,
И каждая частица воздуха катится искоркой,
И под каждым моим шагом вспыхивает свет или цветок, —
Когда все поет, щебечет, воркует, жужжит,
И кажется, что все напоено бессмертьем,
И человек, ослепленный этим сияющим воздухом,
Верит, что день такой жизни никогда не умрет, —
Когда я ощущаю в груди моей тысячи высоких помыслов,
И слабый мой дух, не в силах их перенесть,
Остановляется, дрожа, перед последнею бездной
И, без опоры под ногой, готов низринуться в нее, —
Когда в небе любви, куда воспаряет душа моя,
Я прижимаю к сердцу обожаемое виденье,
И тщетно ищу живых слов,
Чтобы объять ее огнем, сожигающим меня, —
Когда я чувствую, что вздох моей стесненной души
Мог бы сотворить целый мир в пламенном своем порыве,
Что жизнь моя преодолела бы время, что мысль моя
Затопила бы небо и перелилась через край, —
— Иегова! Иегова! твое имя одно мне опора!
Твое имя одно мне отклик на голос сердца!
Или нет: этот мой порыв, этот восторг без слов
Сами лишь отголосок твоего величия, боже!
Ты не часто покоишься в груди моей, высокое имя,
Ты не часто покоишься на огненных моих устах,
Но каждое впечатление мира находит тебя и оживляет тебя,
И крик моей души — это всегда лишь ты, о мой бог!
Сопоставления отдельных лермонтовских стихотворений и их западноевропейских образцов делались неоднократно. В данном случае интерес сопоставления в том, что приходится сопоставлять не образы и мотивы, а композиционную схему стихотворения — схему, которую можно кратко выразить формулой: «Когда… — когда… — когда, — тогда: бог». Что эта схема в обоих стихотворениях одинакова, очевидно. Но достаточно ли этого, чтобы утверждать, будто именно это стихотворение Лермонтову внушено именно этим стихотворением Ламартина? Настаивать трудно. Очень может быть, здесь действовала какая-то более давняя традиция духовной поэзии, специальным изучением которой мы не занимались. Во всяком случае, популярность Ламартина в России именно в 20–30-е годы XIX в. была очень велика, стихотворения его были заведомо известны и Лермонтову, и читателям Лермонтова, и поэтому сопоставление «Крика души» со стихотворением «Когда волнуется желтеющая нива…» интересно не только «с точки зрения вечности», но и с точки зрения истории литературы.
Две особенности лермонтовской поэтики могут быть проиллюстрированы этим сравнением; обе они давно отмечены исследователями. Первая особенность — стремление опираться на уже разработанный литературный материал, концентрируя его в сентенции и формулы, применимые к самым разным стихотворениям (типа «Так храм оставленный — все храм, Кумир поверженный — все бог!»; источником этой сентенции, как известно, является Шатобриан). Вторая особенность, наиболее характерная для позднего Лермонтова, — избегание отвлеченной пышности и стремление к скромности и конкретности образов (классический пример — «Люблю отчизну я, но странною любовью…»). Для нас важнее первая из этих особенностей — мы увидим, как Лермонтов концентрирует и проясняет в своих сентенциях содержание используемого литературного материала и как в своей композиции он концентрирует и проясняет структурные особенности используемого материала.
Стихотворение Ламартина состоит из девяти строф, сгруппированных по схеме 1 + (2+ 1) + (2 + 1) + 2. Первая строфа — вступительная: «Когда божественное дыхание, овевающее мир, касается души моей…». Здесь сразу введены все три основных элемента стихотворения: «бог», «мир» и «моя душа». Из остальных строф эта единственная выделена сравнением «как». Следующее трехстрофие как бы раскрывает понятие «мир»: «небо», «заря, стекающая с неба» и, наконец, поющая и щебечущая «земля» — последовательное движение сверху вниз. Следующее трехстрофие таким же образом раскрывает понятие «душа»: «мысли», готовые низринуться в последнюю бездну, «чувства», воспаряющие в небо любви, и «жизнь и мысль», переливающиеся через край, — сперва движение сверху вниз, потом снизу вверх и, далее, из центра во все стороны. В обоих центральных трехстрофиях последние строфы выделены: в первом — безличностью подлежащих «все» и «человек»; во втором — гиперболичностью образов «вздохом сотворить мир», «мыслью переполнить небо через край»; в обоих — подхватывающей друг друга идеей «побеждаю время» и «победив время, побеждаю пространство». Все семь строф объединены анафорой «когда…», этим они отделяются от двух строф заключения; кроме того, синтаксис семи строф начальной части сложнее и прихотливее, чем синтаксис двух строф заключительной части (начало построено на подчинительных предложениях, конец — на сочинительных предложениях). Заключение начинается кульминационным возгласом «Иегова! Иегова! твое имя…» и дальше построено симметрично: первые две строки каждой строфы обращены к имени божьему, последние две строки — к самому богу; словом «бог» заканчивается стихотворение. Обратим, однако, внимание, что переломом, кульминацией служит не образ бога, а образ божьего имени: мысль о боге присутствует, как мы видели, с самого начала стихотворения, первая же строфа начинается с «божественного дыхания», во второй появляются «пути господа бога», и затем по всем строфам проходят вспомогательные образы сияния, света, лучей, бессмертия, бездны, небес, пламени и, наконец, сотворения мира — все атрибуты образа бога; после этого действительно остается лишь назвать его по имени, имя это своим экзотическим звучанием образует кульминацию, а затем наступает разрешение напряжения и конец.