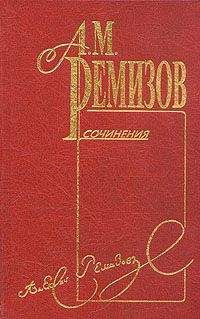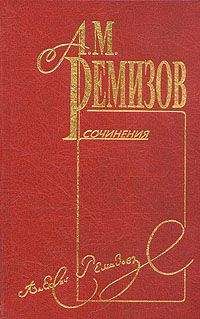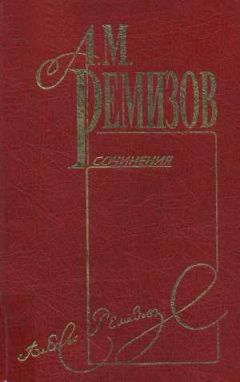Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя
«Инновационная» проза писателя[41] характеризовалась не только обостренным вниманием к трагической стороне бытия, но и особой организацией художественных текстов, сопровождавшейся разрушением стилистических канонов и синтаксических правил. Более всего она напоминала непринужденную вязь запечатленной на письме «изустной» речи. Чтобы уловить ритм и интонацию озвученного повествования, воспроизводимого новаторскими изобразительными средствами, тексты необходимо было прочитывать как музыкальную партитуру. Уже в первой редакции «Пруда» нарратив строился при помощи объединения в единую композицию элементов лирической песни, древнегреческого «трагического хора» и сновидения: «каждая глава, — комментировал композицию своего романа писатель, — состоит из „запева“ (лирическое вступление), потом описание факта и непременно сон; при описании душевного состояния, как борьбы голосов „совести“, я пользовался формой трагического хора»[42]. «Звукопись» подобного рода уживалась в текстах писателя с практически полным отсутствием динамики, что нередко вызывало упреки критики: «Статические способности Ремизова и почти полное его бессилие создать движение в рассказе, давать психологию „действия“, сказывается и в лучших его вещах»[43]. Автору приходилось с этим соглашаться: «Правда, не умею я писать, не умею описывать, как люди движутся, и думаю (и Вы это уразумели), в этом все мое существо бедное»[44].
Впрочем, такая безропотность была не без лукавства. «Существо» ремизовской прозы скрывалось вовсе не в статике, а в стремлении к полноте описываемого бытия. «Какая-то жадность у Ремизова; не пропустить ни одного штриха, ни одной подробности; каждую фразу дополнить до краев — пусть даже через край; пусть иногда целое отяжеляет частности, всегда изумительные по яркости причудливой выдумки и острой наблюдательности. Зато во всей полноте встает каждое лицо, каждая картина», — отмечал другой критик[45]. Практически во всех произведениях Ремизова присутствуют кодовые сигнатуры: имена, малоупотребительные слова, понятия и символы, настраивающие на нужный регистр литературных, мифологических, исторических ассоциаций и специально выделенных разрядкой. Разрядка выполняет здесь функцию «смысловой ловушки», которая так или иначе заставляет любознательного читателя задержать взгляд, приостановить быстротечное чтение, чтобы при необходимости взять словарь или другую книгу, оживить память литературным сопоставлением, постараться понять внутреннюю причину адресованного ему сигнала[46]. Двойное тире (― ―), в поэме «Иуда» (1908) отмечавшее необходимую интонационную паузу, в прозе 1920-х годов станет устойчивым авторским знаком, несущим значительно большую смысловую нагрузку.
Следующее за символистами поколение критиков обнаружило в повествовательном модусе ремизовского рассказа 1910-х годов уже не продолжение известной традиции, а самостоятельную «школу»: «Школа эта отвергает лирический стиль рассказа. Рассказчик не только беспристрастен, каким должен быть художник, но и бесстрастен. <…> Здесь не рассказчик, а „сказитель“. Он закрывает глаза, когда ведет свой рассказ, и никому нет дела до его собственной души. Это — истинный эпос, и вот к нему-то обращается теперь наша художественная проза»[47]. Но даже появление «школы», под которой понималась так называемая «ориенталистская» проза, куда критика записала в первую очередь Е. Замятина, а впоследствии Б. Пильняка, Вс. Иванова и других, не привело к появлению «второго» Ремизова[48]. Сам писатель никогда не останавливался на достигнутом, следуя только одному ему известным маршрутом. В течение десятилетия он осваивал новую, пограничную, реальность, соединяющую вымысел и документ, публичное и интимное, литературный быт и историческую реальность, заполняя ее, с одной стороны, общекультурными, с другой — сугубо индивидуальными смыслами. Уже с начала 1910-х годов законными приемами творческой манеры становятся случаи упоминания не только полных имен или прозвищ его знакомых и друзей, но и обстоятельств их приватного бытия (рассказы цикла «Среди мурья»), В 1913 году появляются первые очерки, целиком построенные на соединении современного контекста повседневной жизни с документами русской бытовой культуры различных исторических периодов; впоследствии, вместе с другими рассказами, они составят книгу «Россия в письменах» (1922)[49]. Стремясь «представить <…> Россию» «по обрывышкам, по никому не нужным записям и полустертым надписям <…> из мелочей»[50], Ремизов создавал эффект обратной перспективы, благодаря которому все далекое приближалось и становилось если не современным, то, по крайней мере, понятным и доступным. Архаические тексты, передаваемые в оригинальном написании с характерными особенностями языковой культуры XVII–XIX веков, начинали звучать живыми голосами.
Ремизовское творческое кредо начала 1920-х годов, объясненное при помощи ассоциации с выдуманным «обезьяньим народом», известно в пересказе В. Шкловского: «Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы, вынашиваются и истираются приемы. Писатель не может быть землепашцем: он кочевник и со своим стадом и женой переходит на новую траву. Наше обезьянье великое войско живет, как киплинговская кошка на крышах — „сама по себе“. Вы ходите в платьях, и день идет у вас за днем; в убийстве, даже более — в любви, — вы традиционны. Обезьянье войско не ночует там, где обедало, и не пьет утреннего чая там, где спало. Оно всегда без квартиры»[51]. Преобразование метода, когда документальное, подлинное, жизненное становилось важнее художественного вымысла и авторской интерпретации, шло в русле общих тенденций развития литературы. «Наше дело — созданье новых вещей, — писал В. Шкловский. — Ремизов сейчас хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции. Он пишет то книгу, составленную из кусков, — это „Россия в письменах“, это книга из обрывков книг, — то книгу, наращенную на письма Розанова. Нельзя писать книгу по-старому. Это знает Белый, хорошо знал Розанов, знает Горький <…>, и знаю я, короткохвостый обезьяненок. Мы ввели в нашу работу интимное, названное по имени и отчеству из-за той же необходимости нового материала в искусстве. Соломон Каплун в новом рассказе Ремизова, Мария Федоровна Андреева в плаче его над Блоком — необходимость литературной формы»[52].
Творческий метод писателя окончательно складывается к концу 1910-х — началу 1920-х годов, когда новаторские приемы прочно соединяются с принципиальным художественно-эстетическим синкретизмом. «Ремизова мы считаем отцом <…> интереса ко всему пестрому, красочному в нашей действительности, к анекдоту, нелепости и сплетению всяких трагикомических случайностей. <…> За рядом анекдотических, посыпанных крупной солью смехотворных приключений, умеет он разрисовать и нелепость, и муку»[53]. Скрытым нервом ремизовского повествования становится волшебство самой что ни есть реальной жизни. Магия пронизывает многие его прозаические произведения «малого жанра», проявляясь то в загадочном названии, заставляющем переосмыслить содержание повседневного бытия («Эмалиоль», «Царевна Мымра», рассказы циклов «Весеннее порошье», «Среди мурья»), то в стремлении открыть «чудо» в самом обычном или даже неприглядном (рассказ «Чудо» (1912), вошедший в сборник «Весеннее порошье»): «За чудом далеко не надо ходить, а заграницу ездить и подавно. Оно тут всякую минуту перед глазами, только смотри и замечай»[54]. Воспринимая мир как собрание растворенных повсюду редких диковин, выхватывая удивительные, на первый взгляд неприметные явления обыденной жизни, преображая тягостное, беспросветное однообразие повседневности, Ремизов создавал совершенно новые, ни на что не похожие формы прозы.
В начале 1930-х годов творчество писателя получает очередную дефиницию — магический реализм. Русский «дадаист» Сергей Шаршун определил смысл нового художественного направления «в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического, — тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной: поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим изображением»[55]. В изобразительном искусстве магический реализм (этот термин был впервые введен в 1925 году в монографии Ф. Ро «Постэкспрессионизм»), отвергающий приоритет визуального опыта над воображением, свойственный классическому реализму, рассматривался как один из наиболее радикальных художественных методов. Художнику присваивалась роль носителя уникальной способности — «заклясть» реальность, придать ей посредством интерпретационных усилий те или иные фантастические, магические черты, которые открывают внутри этой реальности скрытые, невиданные формы человеческого бытия. Уподобляющийся демиургу художник уже не зависит от господствующих вкусов и нравов публики, не задается вопросами, понятен он или нет, не ищет защиты, оправдания или похвалы у критики.