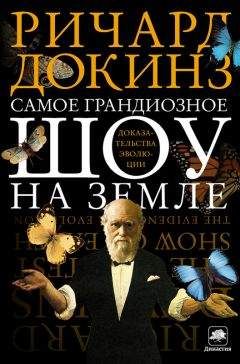Ричард Докинз - Капеллан дьявола: размышления о надежде, лжи, науке и любви
Представьте себе, что мы собрали детей. Первому из них показывают изображение, скажем, китайской джонки, и просят его срисовать. Следующему ребенку показывают уже не исходное изображение, а этот рисунок и просят его срисовать. Рисунок второго ребенка показывают третьему ребенку, который снова его срисовывает, и так до двадцатого ребенка, рисунок которого показывают всем и сравнивают с первым рисунком. Даже не проводя этот эксперимент, мы знаем, каким будет результат. Двадцатый рисунок будет настолько непохож на первый, что джонку нельзя будет узнать. Допустим, если расположить эти рисунки по порядку, мы заметим некоторое сходство между каждым рисунком и его непосредственными предшественником и последователем, но частота мутаций будет настолько высока, что после нескольких поколений всякое сходство исчезнет. Если мы пройдем от одного конца этого ряда до другого, то заметим определенную тенденцию, и направлением этой тенденции будет вырождение. Специалисты по эволюционной генетике давно поняли, что естественный отбор может работать лишь при низкой частоте мутаций. Более того, исходная проблема преодоления порога точности не раз описывалась как “уловка-22” происхождения жизни. Дарвинизм зависит от высокой точности репликации генов. Как может мем с его, казалось бы, безнадежно низкой точностью копирования служить квазигеном в каком-либо квазидарвиновском процессе?
Но не все так безнадежно, как можно подумать, и слово “высокоточный” не всегда оказывается синонимом слова “цифровой”. Представьте себе, что мы снова организуем игру в “китайский шепот”, но на сей раз с одной принципиальной разницей. Вместо того чтобы просить первого ребенка скопировать нарисованную джонку, мы научим его, путем демонстрации, сворачивать модель джонки из бумаги. Когда ребенок научится это делать и “построит”
джонку, его попросят научить этому следующего. Так умение будет передаваться дальше по ряду до двадцатого ребенка. Каким будет результат эксперимента? Что выдаст двадцатый ребенок, что мы увидим, если по порядку разложим на полу результаты всех двадцати попыток свернуть джонку? Я не проводил этого эксперимента, но могу уверенно предсказать следующее, исходя из предположения, что этот эксперимент будет проведен много раз на разных группах из двадцати детей. В нескольких случаях окажется, что где-то в середине ряда один из детей забыл какой-то принципиальный этап техники, которой его обучил предыдущий ребенок, и в данном ряду фенотипов произойдет макромутация, которая затем, предположительно, будет копироваться до конца ряда или до тех пор, пока не будет сделана еще одна, другая ошибка. Конечный результат таких мутантных рядов не будет демонстрировать вообще никакого сходства с китайской джонкой. Но в ощутимом числе случаев это умение будет безошибочно передаваться вдоль всего ряда, и двадцатая джонка будет в среднем не лучше и не хуже, чем первая. Если после этого мы разложим все двадцать джонок по порядку, одни из них окажутся совершеннее других, но их несовершенства не будут скопированы и переданы дальше. Если пятый ребенок неумеха и сделает неуклюжую, кривобокую или разболтанную джонку, его количественные ошибки будут исправлены, если шестой ребенок окажется ловчее. Эти двадцать джонок не будут демонстрировать постепенную порчу, как это несомненно произойдет с двадцатью рисунками в нашем первом эксперименте.
Почему? В чем принципиальная разница между этими двумя разновидностями эксперимента? А вот в чем. Наследование в эксперименте с рисованием идет по Ламарку (Сьюзан Блэкмор называет это “копированием продукта”), а в эксперименте с оригами — по Вейсману (у Блэкмор — “копирование указаний”). В эксперименте с рисованием “фенотип” в каждом поколении служит также и “генотипом” — тем, что передается следующему поколению. В эксперименте с оригами передается не бумажный “фенотип”, а набор указаний по его изготовлению. Изъяны в выполнении этих указаний приводят к появлению несовершенных джонок (фенотипов), но они не передаются следующим поколениям: это не меметические изъяны. Вот первые пять указаний из вейсманистского “меморяда” для изготовления китайской джонки:
1. Возьмите квадратный лист бумаги и загните все четыре его угла точно в середину.
2. Возьмите полученный уменьшенный квадрат и загните одну из его сторон в середину.
3. Загните и другую его сторону в середину (симметрично).
4. Возьмите полученный прямоугольник и точно так же загните два его конца в середину.
5. Возьмите полученный маленький квадрат и загните его назад, точно по той прямой линии, где сходятся только что загнутые края.
И так далее. Эти указания, хотя я и не стал бы называть их цифровыми, потенциально обладают очень высокой точностью, как если бы они были цифровыми. Это так потому, что все они ссылаются на идеализированные задания вроде “загните четыре угла точно в середину”. Если лист не квадратный, или если ребенок согнет его так неаккуратно, что, скажем, первый угол зайдет за середину, а четвертый не достанет до середины, джонка выйдет неказистая. Но следующий ребенок не скопирует ошибку, потому что будет исходить из того, что его инструктор намеревался загнуть все четыре угла точно в середину правильного квадрата. Это само-нормализующиеся указания. Это код с исправлением ошибок.
Эти указания передаются эффективнее, если подкрепляются словами, но их можно передавать и чисто путем демонстрации. Ребенок-японец мог бы научить ребенка-англичанина, даже если бы ни один из них не знал ни слова из языка другого. Точно так же японец-плотник мог бы передать свое мастерство англичанину-ученику — такому же, как и он, моноглоту. Ученик не стал бы копировать очевидные ошибки. Если бы мастер ударил по пальцу молотком, ученик справедливо предположил бы (даже не зная, как по-японски “** **** ****!”), что мастер собирался ударить по гвоздю. Он не стал бы точно копировать, по Ламарку, каждый удар молотка, а копировал бы предполагаемое указание: забивать гвоздь таким числом ударов, чтобы добиться того же идеализированного конечного результата, которого добился мастер: чтобы шляпка гвоздя оказалась заподлицо с поверхностью дерева.
Я полагаю, что эти соображения сильно принижают, а возможно и совсем отменяют то возражение, что мемы копируются недостаточно точно, чтобы их можно было сравнивать с генами. Мне представляется, что квазигенетическое наследование языка, а также религиозных и традиционных обычаев, преподает нам тот же урок. Другое возражение состоит в том, что мы не знаем, из чего состоят мемы и где они хранятся. Мемы еще не нашли своих Уотсона и Крика — у них нет даже своего Менделя. В то время как гены находятся в строго определенных участках хромосом, мемы предположительно существуют в мозгах, и увидеть мем у нас даже меньше шансов, чем увидеть ген (хотя нейробиолог Хуан Делиус и запечатлел свое представление о том, на что может быть похож мем[147]). Мемы, как и гены, мы отслеживаем в популяциях по их фенотипам. “Фенотип” китайской джонки сделан из бумаги. За исключением “расширенных фенотипов”, таких как бобровые плотины и домики ручейников, фенотипы генов обычно составляют части живых организмов. Фенотипы мемов редко бывают такими.
Но и такое может случиться. Вернемся к моей школе. Марсианский генетик, который посетил бы ее во время ритуального утреннего приема холодной ванны, без колебаний диагностировал бы “очевидный” генетический полиморфизм. Около 50 % учеников были обрезаны, остальные — нет. Сами ученики, кстати, вполне осознавали этот полиморфизм: мы делили себя на “круглоголовых” и “кавалеров”[148] (я недавно читал о другой школе, ученики которой разделились по тому же признаку на две футбольных команды). Это, конечно, не генетический, а меметический полиморфизм. Но ошибка марсианина вполне понятна: морфологическая дискретность здесь в точности такого же рода, какого обычно можно ожидать от действия генов.
В Англии того времени обрезание младенцев было медицинской причудой, и полиморфизм “круглоголовые — кавалеры” у меня в школе, вероятно, был меньше связан с вертикальным переносом, чем с разной “модой” в родильных домах, где нам довелось появиться на свет, то есть с еще одним примером горизонтального меметичес-кого переноса. Но на протяжении большей части истории обрезание передавалось вертикально, как знак религии (религии родителей, спешу заметить, ведь несчастный младенец обычно слишком мал, чтобы знать свои собственные религиозные убеждения). Там, где обрезание основано на религии или традициях (с варварской традицией женского “обрезания” это всегда так), его передача будет следовать вертикальной схеме наследственности, очень похожей на схему настоящей генетической передачи, и часто сохраняться на протяжении многих поколений. Нашему марсианскому генетику пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы выяснить, что в формировании фенотипа “круглоголовых” не задействованы никакие гены.