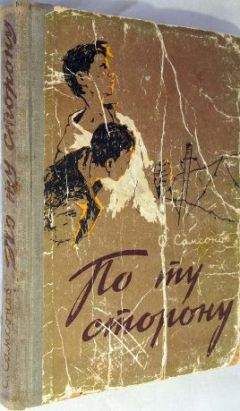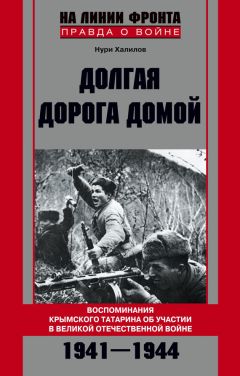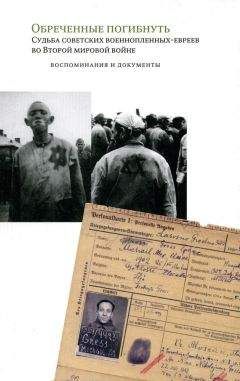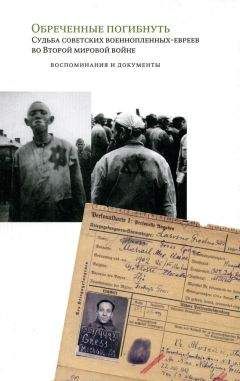Леонид Котляр - Воспоминания еврея-красноармейца
На вступительных экзаменах я сразу же получил двойку за диктант, так как сделал тринадцать ошибок. Это меня очень удивило: ведь в школе я получал по русскому языку в основном пятерки. Сказалось отсутствие практики письменной речи на протяжении всей войны. Провалив диктант, я не допускался к следующим экзаменам, но комиссия сделала для меня как для участника войны снисхождение: на устном экзамене мне показали мой диктант, где красными чернилами были подчеркнуты, но не исправлены, мои ошибки, и сказали, что если я их исправлю и объясню и сдам устные экзамены, мне за диктант поставят тройку. С этой задачей я справился и был допущен к следующим экзаменам, которые сдал на четверки.
Учился я лучше всех на курсе, но Сталинскую стипендию получал комсорг института, мой сокурсник и ровесник. А мне бы она ох как пригодилась: в мае 1948 года у меня родился сын и надолго заболела жена. Положение наше было просто бедственным, и вся надежда была на то, что хотя бы по окончании института у меня появится постоянный заработок.
Гром грянул в июне 1949-го: когда я уже сдал два госэкзамена из четырех, меня из института исключили. В приказе значилось: «по причине сокрытия факта биографии при поступлении в институт».
Инициатором этого приказа стал завкафедрой марксизма-ленинизма Бабенко. Майским утром 1949 года за несколько минут до начала занятий я поднимался по лестнице в плотном потоке студентов, когда он оказался рядом со мной. Слегка придержав меня за локоть, он обратился ко мне по фамилии (я был уверен, что он вообще не замечает меня среди прочих, поскольку у нас не преподает и за все время учебы я ни разу с ним не общался). Бабенко руководил чем-то вроде политического клуба и спросил, почему я ни разу за два года туда не заглянул. В нескольких словах я перечислил ему столько уважительных причин, что он мне даже посочувствовал. Но все-таки настоял на том, чтобы я прочел доклад перед студентами и назвал тему, заметив, как важно нашим студентам, большинство которых проживало на временно оккупированной территории, слушать подобные доклады. Я поспешил с ним согласиться и, к слову, сообщил, что и сам я был в плену и жил на оккупированной территории. Такое ему и в голову не приходило по отношению ко мне, еврею, еще и умудрившемуся при этом выжить. Потерю бдительности человек этот вряд ли мог себе простить, а мне — тем более. Я понял, что даром мне это не пройдет и надо ожидать неприятностей. И они не заставили себя ждать.
Мне пришлось долго доказывать, что факта своего пребывания в плену я не скрывал (это было известно и письменно зафиксировано с моих слов в спецчасти института), а заодно объяснять, как это могло случиться, что еврей, пробывший в плену почти всю войну, остался жив. Беседа с директором института длилась три часа, была отпущена секретарша, заперта дверь кабинета. Директор не скупился на самые каверзные вопросы и придумывание самых невероятных ситуаций, в каких я мог бы оказаться, хотя безвыходней тех, в каких я побывал на самом деле и о которых рассказал ему, вряд ли можно было представить. В результате директор заявил, что лично он против меня ничего не имеет, но обстоятельства…
В институте я был все же восстановлен, помог в этом, как ни странно, парторг института, который повел меня в Министерство просвещения УССР и почти продиктовал текст заявления. Диплом мне выдали, но мытарства мои не закончились: мне было отказано в назначении на работу. «Мы вам политически не доверяем», — объяснили мне в Управлении кадрами. Я подал жалобу в Министерство госконтроля. Вряд ли бы я поступил так, если бы до конца сознавал, на каком тонком лезвии балансирую и как легко могу очутиться в ГУЛАГе. Тем более что в это время уже набирала обороты кампания по борьбе с космополитами, а попросту говоря, с евреями, работавшими в сфере культуры и искусства.
Все лето я «ходил по инстанциям», добиваясь назначения на работу, как вдруг, выйдя из очередного кабинета в Министерстве просвещения и спускаясь по лестнице, встретил человека, остановившего меня задиристым вопросом:
— Ты чего, солдат, обиваешь пороги министерства? Не хочешь уезжать из Киева в село?
Я сразу определил в нем директора, явившегося «выбивать кадры» для своей школы, и ответ мой был полушутливым: уезжать из Киева не хочу, но к нему поеду, потому что он мне понравился. Через полчаса мы были в отделе кадров киевского ОблОНО, а 24 сентября я прибыл на работу в Кагановичский район Киевской области. (Сам я в ОблОНО обращаться опасался, чтобы нечаянно не обнаружилась позиция, занятая по отношению ко мне Министерством просвещения. Вмешательство директора школы почти исключало такой вариант, и потому я на это решился.) Так неожиданно и победно разрешилось мое «запутанное дело». Я стал преподавателем русского языка и литературы в семилетней школе села Варовичи.
А тяжба моя с Министерством просвещения закончилась, когда истек первый месяц моей работы в школе. Министерство госконтроля решило дело в мою пользу, и мне позвонила из Киева в Варовичи жена и попросила срочно выслать ей справку с места работы: ей надлежало получить невыплаченные мне подъемные и еще какие-то суммы после окончания института. С моей справкой жена явилась к директору Учительского института, который поздравил ее с благополучно завершившейся эпопеей моего трудоустройства, и получила причитавшиеся мне деньги. Голодное время для нас кончилось, нашему сыну шел уже второй год. И дни замелькали быстрее.
Я не ставлю перед собой задачи описывать подробности своих педагогических будней. Скажу только, что, кроме Варовичской школы, успел поработать и инспектором РОНО, и учителем русской словесности в Кагановичской средней школе № 1, и чуть не стал завучем в детдоме; а к началу 1953 года преподавал в Стещинской средней школе того же района. Мое появление в селе Стещина совпало с открытием в местной школе 10-го класса — впервые за все время ее существования — и впервые русскую словесность там начал преподавать специалист с дипломом института (в моем лице).
Работать в сельской школе было трудно по многим причинам. Во-первых, начинала входить в силу процентомания, разъедавшая впоследствии многие годы школу и подрывавшая уважение к учителю, на котором школа, по сути, и держится. Во-вторых, сказывалась слабая подготовка детей и суровые условия деревенской жизни, в семьях царила послевоенная нищета. В-третьих, игнорировались и замалчивались достижения возрастной психологии. В-четвертых, на учителя были повешены многочисленные общественные поручения чисто формального характера, требовавшие затрат времени и сил и не дававшие ни морального удовлетворения, ни эффективных результатов. А всевозможные советские праздники, апофеозом которых явилось семидесятилетие Сталина, требовало участия в бесчисленных мероприятиях, окончательно отрывавших от работы.
Об учителях в Стещине утвердилось мнение, что «воны ничого нэ роблять», и в этом заключалась еще одна, дополнительная трудность учительского положения. Завистливая враждебность к учителю подогревалась и тем, что он получал ежемесячно 8 килограммов муки, бесплатное топливо (пусть и в недостаточном количестве), керосин для лампы и зарплату. А колхозник — не более 100 граммов зерна на трудодень, а вместо денег — облигации внутреннего займа. Впрочем, я хоть и был одним из немногих учителей — непостоянных жителей села, не мог пожаловаться на плохое отношение лично ко мне, оно было уважительным. А дети в школе даже симпатизировали некоторым из нас, а кого-то просто любили.
Не почувствовал я враждебности и тогда, когда до Стещины докатилась возникшая в 1952 году волна антисемитизма в связи с «делом врачей».
«Дело врачей»
В селе Стещина не было ни радио, ни электричества, а газеты приходили на третий день и вывешивались в застекленной витрине возле сельсовета, где их почти никто не читал. Однако и в это глухое село волна «дела врачей» докатилась. Волну поднял прибывший с районного инструктажа председатель сельсовета, выступивший на расширенном его заседании, куда были приглашены (явка обязательна) все учителя и должностные лица села. Свое выступление председатель читал по выданному в райкоме тексту, стараясь придать голосу соответствующее теме звучание. Конечно же, он не мог спокойно говорить о преступной деятельности врачей-евреев, поставивших перед собой целью уничтожить советский народ путем неправильного лечения, губительных лекарств и прямого отравления. Село загудело. Впрочем, я не почувствовал, чтобы отношение ко мне в селе ухудшилось хоть на йоту.
Но в то же время я не мог не понимать, что к лету антисемитская кампания наберет обороты, по сравнению с которыми накал борьбы с космополитами 1949 года покажется детской забавой. А затем грядут показательные суды, процессы, которые сорвут маску честных граждан-патриотов с оголтелых преступников, перед которыми даже фашистские изверги покажутся невинными младенцами; а затем — и расправа над советскими евреями, которая будет вполне сопоставима по своим характеристикам с гитлеровским «окончательным решением еврейского вопроса». И расправу эту Сталин преподнесет миру как защиту всего советского народа от преступников-врачей, а в первую очередь — самих евреев от «справедливого гнева» народа, поскольку не все же евреи виноваты в заговоре врачей-сионистов; но и советский народ не виноват, что нет возможности отличить невиновных евреев от преступников-заговорщиков. В сложившейся же ситуации невиновных можно будет уберечь от справедливого гнева, только переселив всех евреев куда-нибудь подальше, скажем, в тайгу. А эшелоны-товарняки, топоры и пилы, чтобы соорудить себе жилища в глухом лесу, Родина предоставит им в нужном количестве и бесплатно. И окажется, что валить лес и обживать новые места (ну, скажем, где-нибудь в районе Биробиджана) придется в самое неподходящее время года…