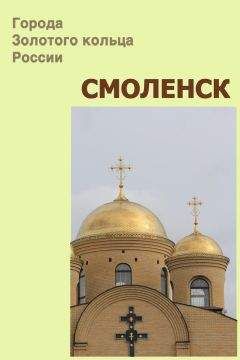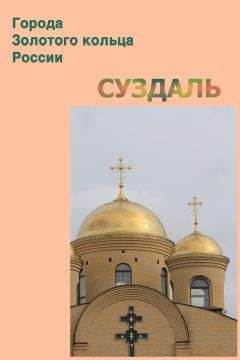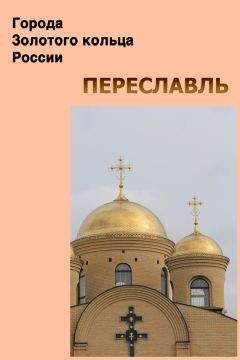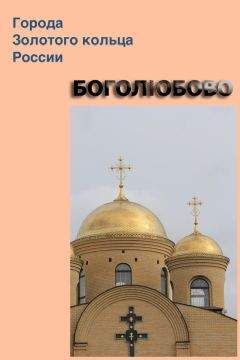Кэролин Стил - Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь
Тревога была ложной (мужчина оказался отцом девочки), но мораль истории очевидна: на Хадсон-стрит непривычная ситуация не могла остаться незамеченной, а потенциальные преступления предотвращались общими усилиями обитателей. Местные лавочники были своего рода стражами порядка: они знали соседей в лицо и старались быть в курсе всего, что происходит в квартале. Как видно из заголовка книги, Джекобе была страстным противником единообразного и монокультурного «зонального» подхода к градостроительству, который тогда преобладал в Америке. Ее труд — своеобразный гимн традиционным смешанным кварталам и их способности порождать чувство сопричастности.
Джекобе не делала акцента на роли еды в сплочении людей, но без нее столь любимая автором Хадсон-стрит была бы куда менее оживленной. Она считала роль еды в жизни городов некой данностью, настолько очевидной, что о ней не стоит и упоминать. Однако спустя 40 лет эта роль в британских и американских городах не только оказалась под угрозой, но и, как правило, недооценивается или игнорируется. В отличие, скажем, от сноса любимого горожанами здания, исчезновение еды из городов зачастую оставляет их физическую форму в неприкосновенности, как случилось в квартале, где прошло мое детство. Я росла в центре Лондона в 1960-х, и в конце нашей улицы был небольшой ряд магазинчиков — булочная, а за ней мясная, рыбная и овощная лавки. Каждый день мать брала нас с братом в поход за покупками. Владельцы магазинов хорошо знали нашу семью и одаривали нас, детей, игрушками и сладостями. Порой мать что-то забывала купить и посылала нас назад в магазин — ее доверие к местным торговцам было столь же безоговорочным, как и их уверенность в том, что она расплатится на следующий день. Сегодня на этом месте не продовольственные лавки, а небольшие салоны антиквариата, из тех, где на витрине выставлен какой-нибудь одинокий предмет мебели; да и отправить шестилетнего ребенка за покупками уже кажется немыслимым. Если взглянуть на карту этой части Лондона, никаких изменений вы не заметите: все те же здания стоят на тех же местах, но сама жизнь в районе радикально переменилась. Сорок лет назад наша улица была центром оживленной внутригородской деревни. Теперь она также безжизненна, как пустынная автострада.
Уличная жизнь — не единственная жертва исчезновения еды из городов. Вместе с ней пропали запахи; казалось бы, невелика потеря, но именно они во многом определяют характер города. Обоняние — самое недооцененное из наших чувств: мы привыкли относиться к нему с пренебрежением, но ничто так не связывает нас с нашими эмоциями и воспоминаниями. Некогда Лондон был городом запахов, и по ним одним я могу составить кар ту тех мест, где мне доводилось жить. В детстве, по пути в школу в Хаммерсмите, я каждое утро боролась с искушениями у кондитерской фабрики Lyons, распространявшей райский аромат шоколадного бисквита, перед которым тогда (да и сейчас) было трудно устоять. Хотя из-за фабрики я шла в школу, глотая слюнки, это была сладкая мука, которую я терпела с удовольствием. Среди других запомнившихся запахов — кисловатый аромат хмеля, висевший над Чизвиком и Фулэмом из-за пивоварен на берегу реки, и воздух Биллингсгейта, отдававший рыбой еще долго после закрытия рынка в 1982 году. Примерно в это же время я жила в Уоппинге, рядом с цехом, где проращивались бобы, и рабочие-китайцы спали в гамаках прямо над чанами. Раз в неделю, когда чаны чистили, вокруг распространялась неописуемая вонь (то есть описать-то ее можно, вот только вам вряд ли захочется узнать, что она напоминала, поэтому я вынесу это в сноску)13. В любом случае прямо за нашей дверью она пропитывала воздух так густо, что хоть на улицу не выходи. Мне вообще везло на запахи: после этого я обосновалась в Бермондси, неподалеку от уксусной фабрики Sarson на Таннер-роуд (судя по названию — улица Кожевников — раньше здесь пахло еще хуже). При определенном направлении ветра спрыскивать картошку фри уксусом было незачем — она пропитывалась его ароматом прямо из воздуха. Почему-то эти всепроникающие пары успокаивали. По ним даже в темноте всегда можно было найти дорогу домой.
Большинства уютных (и не очень) лондонских запахов вы больше не почувствуете: они переместились за город вместе с фабриками. Лондона на промышленной карте страны больше нет — и слава богу, думаете вы. Кому охота, выйдя за порог, окунаться в вонь гниющих бобовых ростков? Вот только вместе с этими запахами исчезло и многое другое. Когда не с чем сравнивать, даже не поймешь, насколько омертвели британские города — для этого надо оказаться за границей. Во время недавней поездки в Индию я несколько дней привыкала к бурлящей жизни на тамошних улицах: к коровам и слонам, козам и курам, нищим и торговцам, гудкам, крикам и мычанию. Мне, уроженке помешанного на инструкциях по безопасности Запада, повсюду виделась надвигающаяся катастрофа: разболтанные грузовики, выше крыши груженые сахарным тростником, беременная женщина, переходящая шестиполосную автостраду, лавируя между автобусами и машинами, велосипедист, мчащийся навстречу этому же железному потоку. Но лейтмотивом всей этой лихорадочной активности была еда: люди готовили прямо на тротуарах, приносили сладости к стенам храмов в качестве подношений, покупали закуски с лотков и тележек, несли на голове корзины с овощами. И еще везде царили запахи: восхитительные ароматы пряностей, смешанные с вонью бензина, мусора и экскрементов. Индия бьет сразу по всем органам чувств, но к этому быстро привыкаешь. После нее ошеломляющее впечатление производит как раз Европа: улицы кажутся безлюдными, автобусы — огромными и неправдоподобно чистыми, расстояния между зданиями — бескрайними зияющими пустотами. Куда ни глянь, везде чего-то не хватает: людей, животных, овощей, запахов, шума, ритуалов, спешки, смерти. Из наших городов старательно вытравлена цветущая сложность человеческой жизни, а нам осталась лишь пустая оболочка.
Возьмите любой город, построенный до появления железных дорог, и влияние еды будет очевидным. Оно ясно отражено в анатомии типичного городского плана доиндустриальной эпохи: в самом сердце располагаются продовольственные рынки, а к ним, словно артерии, наполненные живительной кровью, ведут дороги. Лондон в этом смысле не исключение. Первый основанный на топографической съемке план столицы — «Большая и точная карта города Лондона», выполненная Джоном Огилби в 1676 году, — показывает, насколько сильно город вторил структуре кормившей его округи. По сути, на плане мы видим территорию современного Сити: полукружие построенных еще римлянами стен на северном берегу Темзы, собор Святого Павла чуть западнее центра и Тауэр в юго-восточном углу. Прямо посередине — от Ньюгейта (Новых ворот) на западе до Олдгейта (Старых ворот) на востоке — протянулась широкая улица. Названия различных ее частей: Чипсайд («чип» — от староанглийского сеар, «обмен»), Полтри («птица») и Корнхилл («зерновой холм») — свидетельствуют, что именно здесь располагался главный продовольственный рынок Лондона. Корнхилл пересекается с другой широкой улицей, второй основной осью Сити, идущей с севера на юг прямо по Лондонскому мосту.
Более тщательное изучение карты показывает, каким образом продовольствие попадало в тогдашний Лондон. Стада коров и овец, многие из которых пригонялись из Шотландии, Уэльса и Ирландии, подходили к городу с запада и севера, и по сельским дорогам добирались до Ньюгейта, где первоначально и располагался рынок скота. ВIX веке торжище распространилось на «ровное поле» (.smooth field, отсюда Смитфилд) сразу за городскими воротами: в этом месте и сейчас находится мясной рынок. В период расцвета Смитфилд был смысловым центром всего района — это видно из рассказа Джорджа Додда о «большом дне», устраиваемом там ежегодно в последнюю неделю до Рождества: «Ах, что это за день!., тридцать тысяч лучших
в мире животных собраны на пространстве в четыре-пять акров. Их пригоняли сюда с десяти вечера в воскресенье, и с рассветом в понедельник они уже представляли собой плотную живую массу, волнующееся море мышц. Теснясь вокруг рынка, животные заполонили улицы, по которым в обычные дни подвозят товары в окрестные лавки; Гилтспур-стрит, Дьюк-стрит, Лонг-лейн, Сент-Джон-стрит, Кинг-стрит, Хозьер-лейн забиты ими до отказа. Это — кипящий котел взмыленной живности, наполненный до предела и даже переливающийся через край»14.
Скот уже не гонят к Смитфилду, но память о нем жива в самой городской ткани. Названия окрестных улиц: Каукросс-стрит (Коровий брод), Чик-лейн (Куриная улица), Кок-лейн (Петушиная улица) — напоминают о тех временах, когда это место было заполнено животными, а Сент-Джон-стрит, главный подход к рынку с севера, представляет собой широкую плавно изгибающуюся улицу, до сих пор сохранившую что-то от деревенского большака; ее очертания когда-то определялись «волнующимся морем мышц», втекавшим в нее, как в пролив.