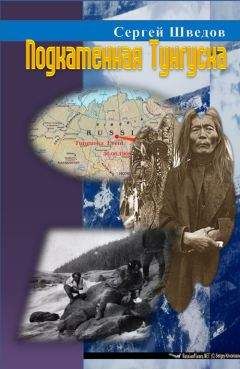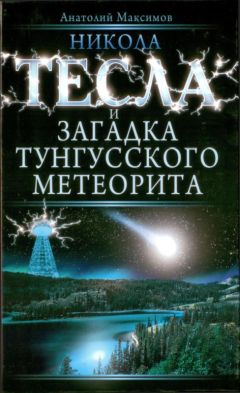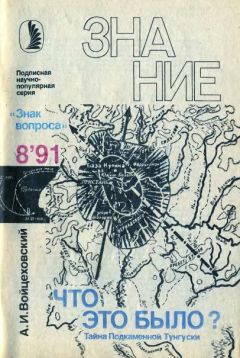Ольга Фролова - Арабские поэты и народная поэзия
Наличие персонажа «вредитель» в лирической арабской поэзии, как пишет Б. Я. Шидфар, наводит на мысль о непосредственной связи любовных стихотворений газаль с эпосом: «вредитель» имеется в волшебных сказках разных народов [159, с. 219]. Так, у всех народов широко распространены сказки о чудесном противнике, которого герой побеждает, после этого женится на освобожденной им девушке, принцессе, царевне, при этом герою помогают чудесные помощники. Основные персонажи в арабских народных песнях и арабской лирике тоже таковы: герой, предмет любви, противник, помощник (об этой категории персонажей будет сказано ниже). В арабских песнях и стихотворениях об антагонисте, противнике, вредителе четко прослеживается нравоучение, они не лишены дидактического момента, что роднит лирическое произведение с народной сатирической, морализующей сказкой или басней. Здесь суть нравоучения обычно такая: «Тот, кто поверит и последует совету вредителя,— раскается, ему будет нанесен вред» или: «Тот, кто покидает любимого или любящего человека ради развлечения с другим, поступает неправильно и раскается».
Приведем примеры из классической и средневековой лирики — из стихов Меджнуна:
Что ж, возможно, сплетники (ва̄шӯна, 4) скажут,
Что я пылаю любовью (‘а̄шик, 3) к тебе.
Да, они правы — моя любовь (х̣абӣба, 2) — ты,
Даже если другим ты и не нравишься.
Из стихов Абу-л-Фараджа ал-Вава Дамасского:
Дай мне, приятель, вина — красного, как огонь!
Забудь, что твердят ханжи (‘аз̱ӯл, 4).
Разве не видишь, как ночь победила зной и свежий ветер повеял?
Из маввалей Йусуфа ал-Магриби:
Прошу, Аллах, завистника (х̣асӯд, 4) порази,
Ибо из-за него разрушился наш союз.Между нами был мир, а обернулся войной.Завистника, порицающего (ла̄ма̄, йалӯму, 4) и поутру, грыжей, Аллах, порази.
Аналогичные примеры мы находим в современной лирике на литературном и разговорном языках. Из стихов Ахмеда Рами:
О тот, благосклонность (рида̄’, 1) которого только мечта,
И бессонница (сухд, 3) из-за него — тоже мечта.
Даже охлаждения (джафа̄’, 3) его я теперь лишен (мах̣рӯм, 3).
Но пусть были бы долгими горькие дни:
То было прекрасное время — завистник (х̣а̄сид, 4) был и соперник (‘аз̱ӯл, 4).
Теперь ушел мой завистник (х̣усса̄д, 4) и скрылся куда-то соперник (‘ава̄з̱ил, 4).
Я, глупец, погасил огонь (на̄р, 3) и остался во тьме.
О ты, кто с легким сердцем принял разлуку (би‘а̄д, 3) со мной!
Ум мой в смятенье (их̣та̄р, 3):
Уж не буду я счастлив свиданьем (виc̣а̄л, 1) с тобой,
И слез не пролью при разлуке (хаджр, 3).
Ах, терзают мученья (‘аз̱а̄б, 3), утрата (х̣ирма̄н, 3),
И не сплю (сахра̄н, 3) я ночей.
А ты, словно призрак (т̣айф, 2), бродишь рядом со мной.
Изнываю от страсти (ваджд, 1) в бесплодной тоске,
И часто потоки слез бегут по щекам моим (дам‘ӣ ‘а-л-х̮удӯд джа̄рӣ, 3).
Из стихотворения Абдаллы ат-Таййиба «Слова соперниц»:
Соперницы (‘ава̄з̱ил, 4) укололи: она никогда не вернется,
И я почувствовал боль от ядовитых слов.
Но этим соперницам хуже,— они ведь завидуют ей (х̣асад, 4),
А сами, сказать по правде, в служанки ей не годятся.
Из тунисской народной поэзии:
Я встретил, гуляя, верного друга (рас̣ӣф, 2), и тотчас рядом со мной — соперник (‘аз̱ӯл, 4), соглядатай (рак̣ӣб, 4) и сплетник (ва̄шӣ. 4). И вырвался крик из раненого сердца — я лишился чувств.
[228, с. 231]Из египетской народной поэзии:
Желаю, газель (раша̄, 2) снискать твою похвалу, чтоб была ты довольна мной, как я доволен тобою.
Но пусть оставит тебя соперник (‘аз̱ӯл ал-байн, 4)
И пусть он навсегда позабудет про нас.
Судьба после долгих блужданий
Соединила меня с любимым.
Любимый моего сердца (х̣абӣб к̣алб-ӣ, 2) с соперниками (‘узза̄л,4) порвал,
И воскресла моя душа.
Ты, чаровница, пленяешь всех,
И наш клеветник (ва̄шӣ, 4) стал дружен с тобой.
Что, если б влюбленный (с̣абб, 3) не встретил тебя,
И эта любовь (хава̄, 1) не пришла бы ко мне!
В современной поэзии персонаж антагониста, вредителя часто терял свою абстрактно-символическую форму и выступал в конкретном виде — как жестокий эксплуататор, паша или бек. Образцом такого рода поэзии являются народные разбойничьи песни, баллады о кузенном браке, а также поэмы о борьбе феллахов против унижения и гнета.
Помощники лирического героя, врачеватели, посланники
В эту группу входит сравнительно небольшое число единиц:
т̣абӣб — лечащий, врач, мн. ат̣ибба или т̣убаба/т̣убба;
муда̄вӣ — лекарь, врач;
дава̄’ — лекарство;
расӯл — посланник;
марсӯл — посланник;
мирса̄л — посланник;
расӯл ал-г̣ара̄м — посланник любви;
к̣а̄д̣ӣ-л-хава̄ — судья любви;
к̣а̄д̣ӣ-л-г̣ара̄м — судья любви;
ра̄к̣ӣ — заклинатель, волшебник;
‘а̄’ид — посещающий больного от любви, мн. ‘увва̄д;
ахл ал-вафа̄’ — люди верности, верный любимый.
Примеры из египетских народных песен:
О, полная луна (бадр, 2), гордишься пред влюбленным (с̣абб, 3),
Но у тебя одно кокетство (дала̄л, 2).
Судья любви (к̣а̄д̣ӣ-л-г̣ара̄м, 5) позволил — быть равнодушной (джафа̄’, 3) ко мне.
Твое лицо ясно (ваджх вад̣д̣а̄х̣, 2) так, что если увидит тебя луна, то скроется.
О, полная луна (бадр, 2), будь благосклонна к больному (‘алӣл, 3).
Он изнурен (муд̣на̄, 3) из-за любви к тебе.
Скорей явись — терпение иссякло.
Судья любви (к̣а̄дӣ-л-хава̄, 5), остановись и жалобе внемли;
Взгляни, как исхудал (инсик̣а̄м, 3).
Взгляни, как я страдаю от любви ('ишк, 1) —
В мое же сердце мечут стрелы взоров.
Относительно персонажа «судья любви» существуют различные толкования. Так, Захау в книге «Арабские песни из Месопотамии» пишет, что судьей любви в одном маввале бейрутского собрания назван некий Нааман — вероятно, известный в то время певец или поэт [179, с. 45]. В другой, египетской, песне говорится:
Врач (т̣абӣб, 5) осмотрел меня и спросил: «Что же с тобой?» «Огонь любви (на̄р ал-г̣ара̄м, 3) разгорелся в сердце моем». «Лекарство (дава̄’, 5) — сказал он,— трава, которая есть у меня». «Не надо мне трав, лекарство (дава̄’, 5) у той, кого я люблю. Оставь же меня умереть от этой любви (хава̄, 1) к ненаглядной (х̣ибб, 2)».
[116, с. 14]Из тунисских народных песен:
Ответь, о гордая красавица (х̮андӯд, 2, Тунис), любовью,
О, властительница черных очей (умм ‘уйӯн сӯд, 2).
Я взрывом пороха сражен (мад̣рӯб би-л-ба̄рӯд, 3),
а врачи (т̣убба, 5) думают меня вылечить.
Из иракских народных песен:
О, верные любви (ахл ал-вафа̄’, 5), вы, только вы врачуете раны (джарх̣, 3) любви (вида̄д, 1).
Люди знают всех в этих краях и увидели нас.
Боюсь, что теперь они бросят меня в море любви (бах̣р ал-г̣ара̄м, 1), как исцелиться тогда?
То, что было в моей душе, сломалось — душа болит.
Разлука и молва лишь углубили рану — она болит.
Зельем (дава̄’, 5) врачуют раны от удара меча —
Раненный словом жестоким неисцелим.
Семантико-стилистическая группа слов, обозначающих помощников лирического героя, врачевателей, посланников, дает еще одно основание полагать, что арабский жанр газал связан с развитием эпоса. Мы уже указывали на высказывание Б. Я. Шидфар, что на эту мысль наводит наличие в газале очень древнего эпического персонажа «вредителя», известного в волшебных сказках разных народов [159, с. 219]. Аналогичен и персонаж «помощника».
Для древнего мифического сознания была характерна вера в превращения, естественно представление, что и «звери когда-то, были людьми» [49, с. 9]. Так, в сказках и в народном эпосе в роли помощников выступают «конек-горбунок», «кот в сапогах», «серый волк», а также и «верный слуга», «волшебник» и т. п. Самые важные элементы мифического сознания переходят из эпоса в лирическую песню. «Наиболее стойкие моменты мифического сознания присутствующие в лирической поэзии,— пишет В. И. Еремина,— есть, по всей вероятности, результат традиционного многовекового отставания формы выражения от содержания. Мифическое сознание теряет со временем основные элементы своего содержания (веру во всеобщую одухотворенность, в превращения и т. п.), но форма выражения эстетически ценных представлений сохраняется почти нетронутой, она лишь слабо видоизменяется, а потому и живет веками. Готовые устойчивые поэтические формулы вновь осмысливаются и присутствуют в народной поэзии уже для выражения иных чувств, иных настроений» [49, с. 15].