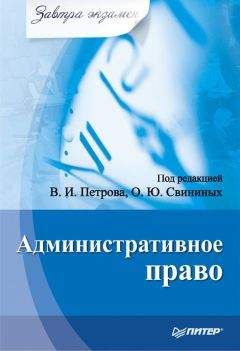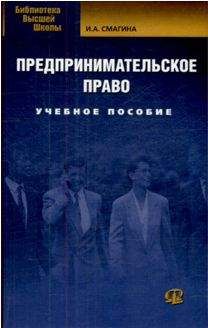Ирина Галинская - Культурология: Дайджест №2 / 2011
Кто не знает, что искусство, как и история, всегда жило переменами, переживало смену стилей, подчас встречая в штыки художественные новации. Однако эта подозрительность в отношении новопришельцев, которую ставят в вину классическому искусствоведению, есть на самом деле спасительная предусмотрительность, предохранительный клапан, оглядчивая функция человеческой «ретроградности», ревностно стерегущая священные границы и препятствующая вторжению на территорию Искусства подрывных элементов и контрафактной продукции. Но если новации прежних времен благополучно проходили таможенный досмотр, потому что оказывались открытиями внутри культурного пространства, то последующие, со времен авангарда – выходят за его пределы. Автор нашумевших артефактов А. Бретон на заре своего служения так и объявил, что европейскую культуру необходимо уничтожить через разложение искусства, при этом главной идеей должно быть разрушение какой бы то ни было эстетики (sic!). Осознавая резкое различие между прежними и новыми новаторами, Владимир Вейдле об одном из столпов изобразительного авангардного сознания писал: «…Те искусство меняли, а он его отменил»3. Авангард не просто объявил о разрыве отношений, но объявил о радикально иных, чем цели искусства, целях и задачах своей деятельности: он увидел свое призвание и свою миссию в том, чтобы служить революционным рычагом общественного переустройства (а вовсе не созидателем предметов для «незаинтересованного созерцания»). Он не вписывался в историю собственно искусства, подобно тому, как социальный авангард, осуществивший переворот 1917 г., не вписывался в естественный ход истории и даже в типологию известных доселе революций, но взялся переделать по новому штату весь мировой порядок и самое человеческое существо4.
С того момента утекло много мутной воды, и поток ее становился все более бурным, все более прокламационным. Ныне размножившиеся артмейкеры в открытую бравируют «блистательно-хулиганской эпохой 90-х, громкими арт-экспериментами», скандально известными группами типа «Синих носов», носов, которые не без подначки они показывают современному зрителю и прежнему искусству; новейшими выставками, как, например, вызывающе назвавшая себя «Невыносимой свободой творчества», зрителей коей при входе предупреждают, что часть экспонатов может вызвать «эстетический и эмоциональный протест»; или как, например, венский живописно-мобильный «Театр оргий и мистерий», куда не допускаются лица младше 21 года и чью акцию была вынуждена прервать полиция.
Афишируя невменяемые порождения авангардного сознания в качестве последних достижений искусства, их творцы и пропагандисты сталкиваются, как известно, с упрямым фактом невостребованности их у «косной публики». Уже (или еще) в 90-х годах это трагическое разминование предложения и спроса искусствовед, обозреватель «Известий» Д. Смолев находил чрезвычайно забавным. Ну что, казалось бы, размышлял он, широкому зрителю до Гекубы, т.е. до потаенного смысла кружочков и квадратиков? Оставить бы тему на попечение знатоков, дать публике передышку – глядишь, сама бы встрепенулась: что-то нам давно русского авангарда не показывали. Нет, констатировал автор, механизм запущен, антрактов не предусмотрено.
Прошли годы, и так же насущна ныне эта тема, и так же, если не отчаянней, действуют движители нового искусства, осознающие уже не только необходимость удесятерить пропагандистские усилия и разнообразить способы внедрения новых форм, но также не стесняться – из любви к искусству – применять к зависимой, студенческой аудитории самые строгие, насильственные меры: используя опыт прошлого, попросту загонять их на демонстрацию передовых новинок, как некогда загоняли беспартийных на открытые партсобрания. А то ведь, как неожиданно высказался один из чтимых наших театральных деятелей: «Пока насильно не поведешь, ничего не получится»5. И ежели действовать неотступно, окружая человека взрывными артефактами, то, может быть, он в конце концов попривыкнет и подумает, что, видать, и впрямь это что-нибудь значит, раз это так настойчиво рекламируют, считает Д. Смолев. А уж если взяться за человека сызмальства, то можно достичь большего: подобно тому, как таджикские дети, знакомящиеся с местным наркотиком в трехлетнем возрасте, не разлучаются с ним всю дальнейшую жизнь, принимая подобный образ жизни за норму, так и потребители «актуального искусства», приученные к отталкивающим зрелищам и звукам «радикальных опытов», пережив что-то вроде ампутации гипофиза (см. антиутопию Е. Замятина «Мы»), процесса ломки природы, теряют нормальную способность к различению красоты и безобразия. Именно это ставит на повестку дня арт-авангард, объявляя своей задачей формирование особой «структуры сознания» у непродвинутых индивидов и выдвигая лозунг: «Мы вас заставим понимать язык современного искусства!» (Если природу человека изменить нельзя, то испортить ее можно.)
Однако мы отвлеклись, вернемся к сути жгучего вопроса.
Итак, поскольку в «актуальном искусстве» нет ни искусства, ни творчества, главный аргумент в нескончаемой нынешней тяжбе, этот «столп и утверждение» свободы творчества и неприкосновенности искусства, теряет всякую действенность; он попросту неуместен. К сожалению, эта простая истина, которая «кончает все разговоры с ним» как с искусством, не была озвучена в имевших место прениях. А это позволило бы начать разговоры о нем не как об эстетическом явлении, огражденном священным частоколом, а как о прямом высказывании.
Однако могут ли одним и тем же именем называться два разных явления? То, что выставляется сегодня под названием актуального искусства, есть продукция какой-то иной деятельности человека (и одновременно симптом его психического состояния) и требует иного наименования: к примеру, аудиовидеоаттракцион (АВА) или, возможно, удачнее – «акционизм» (термин, кстати, функционирующий в недрах поп-арта). Ведь объявившее свое искусство рычагом перелопачивания общества (и человеческого существа) новейшее новаторство, бросая вызов миру и Риму, приобретает функции пропагандистской деятельности и даже прямого действия (существует такое течение – «живопись действием»).
Как мы видим, этот мейнстрим не только не служит цели искусства – красоте, он является прямым вызовом ей. И корни подобного явления – в самом мировоззрении, во взгляде творца нового типа на мир, который для него перестал быть прообразом красоты и носителем смысла, но превратился в абсурдное, достойное мщения пространство. Однако, если это «искусство» отказалось от того, чтобы приносить эстетическую радость, то это не значит, что оно отказалось от эмоций вообще: субститутом радости в новейших экспонатах оказалось злорадство. Достаточно признаний зачинщика дадаизма Т. Тцара: «Начинания дада были связаны не с искусством, а с отвращением»6; или одного из основателей берлинский группы дадаистов Георга Гросса, который признавался, что пером водили ненависть и презрение, а жизнь из-за кипящей в нем злобы превратилась в сущий ад.
В эстетике шлюзы новой свободы открыл Бенедетто Кроче, поставивший на центральное место, место красоты, выразительность – концепт, выходящий за пределы классической эстетики и превратившийся сегодня в культ самовыражения. Между тем самовыражение не может быть общезначимо, особенно при современном деградирующем психологическом состоянии человека. Новый художник не оставил для себя никакой опоры… кроме свободы. Свобода, согласно известной максиме, нужна содержанию, а пустоте свобода не нужна, но она-то, пустота, прежде всего и впускает, и заглатывает ее, свободу, в себя. И выдает нам соответствующие плоды. Известно, что отказ от высших ориентиров, когда ничто не влечет вверх, – открывает дорогу вниз. Но сегодня трудно представить, какие еще низы остались для так называемого актуального искусства…
О КРАСОТЕ, КОТОРАЯ НЕ СМОГЛА СПАСТИ СОЦИАЛИЗМ 7
Ханс Гюнтер – немецкий славист, профессор Билефельдского университета (земля Северный Рейн-Вестфалия). «Отличительной особенностью тоталитарных государств, – замечает он, – является не только мобилизация и политическое воспитание граждан. <…> В конструировании нового человека участвует <…> также компонент эстетический» (с. 13).
Для фашизма и национал-социализма 1920–1930-х годов характерна эстетизация публичной жизни, использование новых политических символов, государственных мифов и культа вождя. Тем самым они «ярко выделялись на фоне “скучной” и “пресной” рациональности демократических государств» (с. 14). Не случайно сами диктаторы определяли себя как «художников» и «творцов». Гитлер видел в себе «великого демиурга всемирной Германии». Вожди воспринимали себя как архитекторов своих государств и в метафорическом, и в буквальном смысле. С начала 1930-х годов тоталитарные диктатуры начинают учиться друг у друга, подражать друг другу и все более уподобляться друг другу. В частности, общим для всех тоталитарных диктатур 20–30-х годов был культ молодого тела (с. 16).