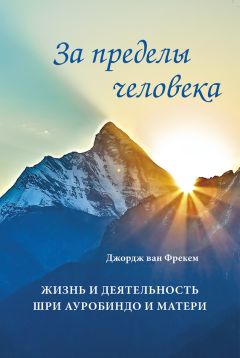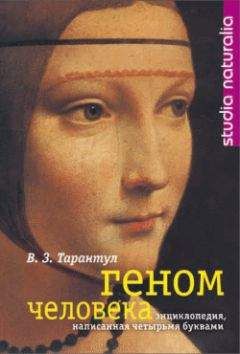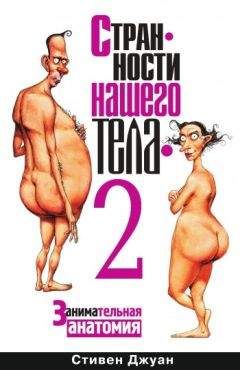Галина Гордиенко - Запах полыни
Сауле прижалась лбом к холодному стеклу и ничего не ответила.
— Ладно бы для взрослых, в конце концов, мы сами за себя отвечаем, выкарабкаемся как-нибудь. А вот Лизавете… ну, скажи, за что ей такая дрянь в матери досталась?
За какие грехи?
— Она… сильная. — Сауле по-детски шмыгнула носом. — Анна Генриховна сказала бы: каждому дается ноша по плечу.
— Это ты о Лизавете?!
— И у каждого свой путь, — упрямо буркнула Сауле. — Лизавета… она вытянет. Может, еще сильнее станет.
— Блин… да ты с ума сошла!
— А может… это ваш общий путь? — Сауле исподлобья посмотрела на подругу. — Ведь ты не обратила бы на Лизавету внимания, не будь у нее такой жуткой матери.
— Точно с ума сошла! Или это старуха тебя с толку сбивает?
— Анна Генриховна не старуха.
— Ага — молодка!
— Прекрати.
— Прекращаю. А ты думай иногда, что несешь!
— Но я правда считаю Лизавету очень сильной. И потом… вы похожи!
Таня оторопело открыла рот.
— Нет, честно. Я, как только ее встретила, сразу тебя вспомнила. Не только из-за имени.
— Да уж, — проворчала Таня, — с именем ты меня здорово поддела. Надо же: «Лизавета, и точка». Клянусь, я едва нижнюю челюсть на полу не оставила. А все ты, альтруистка худосочная, чтоб тебя…
— Я-то здесь при чем?
— Ты же привела в дом это убоище!
— А ты бы на моем месте не привела?
— Ни за что!
— Тань, но меня-то ты привела, — еле слышно выдохнула Сауле. — Мало того, ты меня из самой Москвы сюда притащила, дорогу оплатила, а потом еще и на даче два месяца прятала, пока квартиру не сняли. Вспомни, как ты мне гражданство делала, сколько пробегала, нервов и времени потратила. А с Китенышем как помогала?
— Это… другое дело. — Таня мучительно покраснела. — Ты мне почти сестра!
— Это сейчас.
— Все, кончаем этот дурацкий разговор!
— Кончаем, — кротко согласилась Сауле.
— И ты завтра же идешь на работу секретаршей!
— Иду. Хоть и страшно.
— Это у телефонов сидеть страшно?! Ты, Саулешка, окончательно обнаглела!
— Ага, я такая, — улыбнулась Сауле. — А ты, значит, идешь «чистить рыло» Лизаветиной матери?
— Даже бегу! Должен же кто-то вступиться за девчонку, — огрызнулась Татьяна. — Я вообще не понимаю, почему ее мамаша до сих пор не лишена родительских прав. Там же пустыня Сахара, а не квартира! У Лизаветы и кровати нет, мать пропила. Грязь, еды ни крошки, постоянные пьянки, драки… Спрашивается — куда смотрят соседи, они что, все дружно ослепли и оглохли?
— Ты права. Мы… слишком равнодушны.
— Особенно ты, — язвительно фыркнула Таня. Звонко чихнула и задумчиво протянула: — Интересно, как сложилась бы моя жизнь, реви ты тогда потише? Я о том августе, когда мы только-только познакомились…
— Помню, Тань.
— Прикинь — я бы спокойно читала, потом заснула, утром, само собой, в коридоре тебя бы не оказалось…
Сауле улыбнулась и пожала плечами. Таня пробормотала:
— Не со скуки ведь помирала бы эти семь лет, как считаешь? — Она протяжно зевнула.
В комнату заглянул Никита и угрюмо поинтересовался, сколько ему сидеть в гордом одиночестве. Есть ли у некоторых взрослых совесть или они напрочь забыли, что это такое.
И вообще, он вскипятил чайник. Он даже сделал бутерброды с маслом, сыром и колбасой! Если они закончили ругаться, то он, так и быть, потерпит их на кухне и даже пригласит перекусить. Чай он тоже заварил, он сегодня удивительно добрый.
— Чур, мне кофе, — жизнерадостно заявила Таня, мгновенно переключаясь. Бесцеремонно подтолкнула подругу к кухне и скомандовала: — Саулешка, бегом и с песней!
Или надеешься — я сама буду крутиться у плиты с туркой?
Фигушки тебе! В гостях я или как?!
Она поймала Никиту, подбросила его к потолку и захохотала:
— Радость ты наша! Заботничек! Что мы без тебя?
Сауле усмехнулась и подумала, что впервые за семь лет Татьяна не заметила, что ее дважды назвали Таней. Раньше она прощала это только Китенышу.
Для Никиты она всегда была тетей Таней!
Колыванов рассматривал небольшую разделочную доску, повешенную матерью над обеденным столом. Точную копию той, что он видел недавно у Никиты. Только рисунок другой. Вместо маков — пышная пена полевых ромашек над граненым стаканом с надколотым краем.
Колыванов тысячи раз видел эти скромные цветы на обочинах дорог, на газонах или лесных полянах, но только сейчас заметил их непритязательную, нежную красоту.
В природе полевые ромашки как-то не бросались в глаза, теряясь среди пестрого разнотравья.
Он снял доску и задумчиво провел пальцем по расписанной стороне, она была покрыта лаком, как и другая доска, с маками. И рисунки…
Никаких сомнений: рука одна.
Та же изумительная прозрачность крошечных лепестков, так же зримо дрожит прогретый солнцем воздух над букетом, зыбкая тень от стакана падает на ученический тетрадный лист в голубоватую клетку…
— Тебе тоже нравится?
Колыванов улыбнулся неслышно подошедшей матери и кивнул. Галина Николаевна с гордостью сказала:
— Я как увидела, сразу стойку сделала!
— В самом деле, здорово, молодец, что купила.
— Ты же знаешь, в искусстве главное — твое это или чужое, — оживленно пояснила мать. — Я сколько раз была в Третьяковке, а спроси меня, что хотела бы повесить в собственном доме, лишь плечами пожму. Не цепляет, и все!
— А эти ромашки, значит, зацепили?
— Эти зацепили.
— А почему? — с любопытством спросил Колыванов. — Я вот смотрю и не понимаю: ну, ромашки, и что? Ведь ничего особенного! Если честно, я на них никогда внимания не обращал, это же не розы и даже не сирень или гвоздика…
— Я поняла, о чем ты, — задумчиво проговорила Галина Николаевна. — Я тоже как-то об этом думала: почему одна картина оставляет равнодушной, хотя в ней есть все — лесная поляна, скажем, да еще речка через нее бежит или ручей, все красиво, все правильно, как на фотографии. А на другой всего ничего — куст шиповника облетевший да склон горы или вообще кусочек пустыни, а ты стоишь как приклеенный, не можешь отойти.
— И что надумала?
— В первом случае — просто картинка, пусть даже там каждая травинка, каждый листочек тщательно выписаны.
А во втором — вложена душа, вот тебя и притягивает как магнитом… — Галина Николаевна забрала у сына доску и всмотрелась в рисунок. — Пойман момент, передано собственное настроение, по сути, сделан как бы срез настоящего, живого. По принципу — остановись мгновение…
— Да ты, мам, философ!
— Стараемся, — скромно заметила Галина Николаевна. — Ты со мной не согласен?
— Да нет, в твоей теории что-то есть. Эти ромашки действительно как живые…
— На неделе обязательно загляну в магазин. Продавщица сказала: обещали снова принести работы этой художницы.
— Почему — в магазин? — рассеянно удивился Колыванов, не в силах оторвать взгляда от рисунка. — Разве ты не на рынке купила?
— С ума сошел! — весело возмутилась Галина Николаевна. — Когда это ТАКОЕ продавали на рынке?!
Колыванов обернулся к матери, лицо его стало хмурым.
— А где продают?
— Старого Арбата у нас нет, не Москва, как нет и стихийных рынков, галерей, бесконечных выставок-продаж и так далее, — засмеялась Галина Николаевна. — Но зато есть магазин «Народные промыслы», туда я и забегаю время от времени.
— Ты там купила? — угрюмо спросил Колыванов, припоминая недавний разговор. Кажется, Никита радовался пятидесяти рублям за доску, но речь шла именно о рынке, он не мог перепутать. — И сколько заплатила, если не секрет?
— Всего пятьсот рублей, представляешь? — Галина Николаевна смущенно улыбнулась. — Думаю, художница совсем молодая, не знает себе цены…
— Ох не знает, — зло выдохнул Колыванов.
— Конечно, в магазине должны быть эксперты… — виновато произнесла Галина Николаевна.
— Ладно, мам, не бери в голову! Не взяла бы ты, взял бы другой!
Успокоенная Галина Николаевна захлопотала, накрывая на стол, а Колыванов сидел, слепо глядя на полевые ромашки. Размышлял, каким образом они попали в магазин.
Ведь одно дело, если доски туда носит старуха, бессовестно оценившая работу талантливой девчонки в жалкие пятьдесят рублей и теперь наживающаяся. И другое — если подсуетился шустрый покупатель.
Ну, просек он, как из ничего сделать бизнес! Тут уж злиться можно только на глупую и непрактичную мать Никиты.
День выдался самым весенним, такого еще в этом году не выпадало. Ни тучки, ни даже самого крошечного облачка в небе. Яркая синь изливалась на мир вольно и щедро, солнце золотым диском висело над городом, мокрый асфальт курился легким дымком, стремительно сох.
Таня широко шагала по тротуару, за ней вприпрыжку бежала Лизавета. Бультерьер лениво мотался в кильватере, отвлекаясь на всякого голубя или воробья, его обычно сонные глазки возбужденно блестели, кончик носа жадно подрагивал: острые весенние запахи волновали и его.